Фернан Бродель. Что такое Франция?

Фернан Бродель. Что такое Франция? Книга 1. Пространство и история. М., Изд-во им. Сабашниковых, 1994
Фернан Бродель. Что такое Франция? Книга вторая. Люди и вещи. Часть 1. Численность народонаселения и ее колебания на протяжении веков. М., Изд-во Сабашниковых, 1995
Фернан Бродель. Что такое Франция? Книга вторая. Люди и вещи. Часть 2. “Крестьянская экономика” до начала XX в. М., Изд-во Сабашниковых, 1997
(Читать или скачать все три тома)
Последний из трех трехтомников великого Фернана Броделя (1902-1985) (должен был стать пятитомником, но Бродель умер), по богатству содержания и объему считаемый по сути за три книги.
В первом томе характеризуется пространственная структура “французского шестиугольника”, намечается глубокая культурная, хозяйственная и антропологическая граница между севером и югом, осознаваемая самими французами (в противостоянии севера и юга я категорически не на стороне эгоистичных, самовлюбленных неприязненных северян – осознал еще попав из Прованса в Париж), а также менее осознаваемая граница по диагонали Сен-Мало – Марсель, отделяющая богатый, густой, динамичный северо-восток от отстающего, консервативного, реже населенного юго-запада. Он подробно обсуждает значение “французского перешейка” – именно по западной границе Франции идет великая коммуникационная перемычка между средиземноморским и североморским бассейнами. И не случайно, что именно бассейн Роны и Бургундия, Шампань, Сена, стали стержневыми регионами развития Франции. Нам это все тем более интересно, что вторая перемычка – черноморско-балтийская создала Русь и из неё Россию. Хотя у нас роль этой перемычки в итоге была меньше, поскольку южный конец под турками деградировал.
В первом томе Бродель дает блестящие зарисовки истории французских провинций и регионов, включая неожиданное выступление в качестве военного историка – очерк неудачной осады австро-савойцами Тулона в 1707.
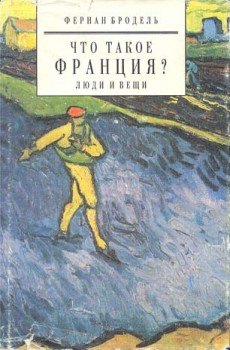 В первой части второго тома намечается очерк истории Франции через демографию. Особенно удались Броделю главы о Галлии, в которых много свежих мыслей, в частности предположение, что легкость завоевания римлянами Галлии напрямую связана с высоким уровнем развития её цивилизации (очень коррелирует с моим мнением на сей счет). Интересно о демографическом росте раннего средневековья и об упадке после Чумы. Прекрасные страницы Бродель посвящет двум современным проблемам Франции – депопуляции и миграции. Он отмечает то насколько рано во Франции распространилась тенденция к контролю над рождаемостью – уже в 1790 гг. 60% пар регулировали количество детей. Миграционные процессы Бродель тоже оценивает очень трезво. Он указывает на то, что мигрантская молодежь агрессивна, что большинство смешанных браков распадается, что второе поколение мигрантов меньше готово к ассимиляции, чем первое. Для книги написанной в 1984 г. анализ очень глубокий и трезвый. Он, правда, надеялся, что мигрантов перемелют избирательные урны – каково ему было бы узнать, что они их используют для того, чтобы выбирать свои муниципалитеты, запрещающие рождественские елки.
В первой части второго тома намечается очерк истории Франции через демографию. Особенно удались Броделю главы о Галлии, в которых много свежих мыслей, в частности предположение, что легкость завоевания римлянами Галлии напрямую связана с высоким уровнем развития её цивилизации (очень коррелирует с моим мнением на сей счет). Интересно о демографическом росте раннего средневековья и об упадке после Чумы. Прекрасные страницы Бродель посвящет двум современным проблемам Франции – депопуляции и миграции. Он отмечает то насколько рано во Франции распространилась тенденция к контролю над рождаемостью – уже в 1790 гг. 60% пар регулировали количество детей. Миграционные процессы Бродель тоже оценивает очень трезво. Он указывает на то, что мигрантская молодежь агрессивна, что большинство смешанных браков распадается, что второе поколение мигрантов меньше готово к ассимиляции, чем первое. Для книги написанной в 1984 г. анализ очень глубокий и трезвый. Он, правда, надеялся, что мигрантов перемелют избирательные урны – каково ему было бы узнать, что они их используют для того, чтобы выбирать свои муниципалитеты, запрещающие рождественские елки.
 В полутоме по экономике мы видим более привычного Броделя – смакующего экономическую историю. Здесь масса увлекательной фактуры, локальные обобщения – пастушество, виноградарство, зерновое хозяйство, пути сообщения – Бродель особо отмечает огромную роль речных сообщений во французской истории, несмотря на то, что французские реки не самые удобные для судоходства. Блестящим является его анализ французского капитализма, вскрывающий французский национальный характер как нации накопителей, нации отложенных в чулок денег – этот характер мешал развитию французского капитализма, которому не хватало инвестиционного капитала, но не раз спасал Францию в трудные минуты.
В полутоме по экономике мы видим более привычного Броделя – смакующего экономическую историю. Здесь масса увлекательной фактуры, локальные обобщения – пастушество, виноградарство, зерновое хозяйство, пути сообщения – Бродель особо отмечает огромную роль речных сообщений во французской истории, несмотря на то, что французские реки не самые удобные для судоходства. Блестящим является его анализ французского капитализма, вскрывающий французский национальный характер как нации накопителей, нации отложенных в чулок денег – этот характер мешал развитию французского капитализма, которому не хватало инвестиционного капитала, но не раз спасал Францию в трудные минуты.
Цитата:
Новая проблема: иностранная иммиграция.
Мне повезло: я всю жизнь исповедовал веротерпимость. Это для меня естественно. По я не ставлю этого себе в заслугу. Например, я, что называется, открыл для себя еврейский вопрос только в Алжире, в 1923 году. Мне было больше двадцати лет. Затем я десять лет жил все в том же Алжире, на мусульманской земле, и научился уважать и понимать арабов и кабилов. Позже, в 1935 году, в Бразилии, где я преподавал несколько лет, я столкнулся с неграми – и словно окунулся в атмосферу романа “Унесенные ветром”. Наконец, я знал почти все европейские страны и подолгу и с удовольствием живал в них, чувствуя себя как дома.
Веротерпимость и еще раз веротерпимость! Без нее невозможно трезво исследовать мощную волну пролетарской иммиграции, которая обрушилась на нас сегодня. И пытаться понять, почему на сей раз она вырастает в проблему, меж тем как Франция поколениями принимала и поглощала волны эмигрантов, которые обогащали ее материально и культурно.
Возможность ассимиляции, готовность к ней – вот, я думаю, главное условие для безболезненной иммиграции.
Это касается всех, кто в одиночку или кучками захотели стать французами: политические беженцы, спасающиеся от фашизма итальянцы, уцелевшие во время гражданской войны испанцы, русские белогвардейцы, художники, ученые и интеллектуалы всех направлений и взглядов. Этих иммигрантов Франция радушно приняла, и они быстро влились в нашу культуру. Их уже невозможно отличить от коренных французов. И часто самыми большими успехами Франция обязана именно этим приемным детям. Мария Склодовска (1867-1934) родилась в Варшаве, вышла замуж за Пьера Кюри, в 1898 году вместе с ним открыла радий, а в 1911 году стала лауреатом Нобелевской премии; Пабло Пикассо (1881-1973) родился в Малаге, Амедео Модильяни (1884-1920) – в Ливорно, Марк Шагал – в 1887 году в Витебске, Эжен Ионеско – в 1912 году в Слатине (Румыния); Хаим Сутин (1895-1944) родился в Литве и довольно долго жил в Сере, где оставил по себе добрую память; у него была замечательная привычка пробовать кисти на своей одежде: результат был незабываемый. Право, список выдающихся иностранцев, которые пожелали жить в нашей стране, вышел бы слишком длинным. Они дороги нам не только потому, что отблеск их славы падает на нас, но еще и потому, что они согласились стать французами, как мы, и стоять в одном ряду с самыми известными из наших соотечественников, потому что они внесли свой вклад в нашу разностороннюю культуру.
Но для статистики важны крупные волны иммиграции: итальянцы в конце прошлого столетия, русские белогвардейцы после 1917 года, поляки, заселившие шахты и фермы на Севере около 1920 года, евреи, бежавшие из насеровского Египта и независимого Алжира (где они в 1871 году по декрету Кремье получили французское гражданство), алжирцы европейского происхождения, которых встретили в 1962 году без особой радости; их было больше миллиона: мужчины, женщины, дети; конечно, это были французы, и они вернулись домой, но, потеряв все, они чаще всего оказывались брошены на произвол судьбы, как иммигранты. Наконец, большая волна рабочих-иммигрантов шестидесятых – семидесятых годов.
Массовая иммиграция пришла к нам сравнительно поздно; в 1851 году, накануне Второй Империи, иностранцы составляют меньше 1 процента населения, около 1872 года их становится 2 процента. 40 процентов иммигрантов – бельгийцы, работавшие в ту пору в городах, в шахтах и на свекловичных полях севера; следом за ними идут итальянцы. Ассимилировались эти иностранцы, близкие соседи, довольно быстро, тем более что закон от 26 июня 1889 года облегчил натурализацию. К 1914 году “число иностранцев равнялось примерно 1 100 000 [человек], что составило почти 3 процента от общей численности населения466
Сразу после первой мировой войны и даже прежде, чем она закончилась, во Францию, где не хватало рабочих рук (ибо трудоспособное население, молодые люди, полегли на полях сражений), хлынула вторая волна иммигрантов, на сей раз из стран Средиземноморья, прежде всего из Северной Африки, вошедшей (1830, 1881-1883, 1911) в нашу колониальную империю. В 1931 году в стране иностранцев уже 2 700 000 человек – это 6,6 процента населения Франции. Кризис тридцатых годов и вторая мировая война привели к снижению этого числа: в 1946 году в стране осталось только 1 700 000 иностранцев (то есть 4,4 процента населения).
Начиная с 1956 года быстро нарастает третья волна. В 1976 году иммигрантов насчитывается приблизительно 3 700 000 (7 процентов всего населения). В этой массе 22 процента португальцев, 21 процент алжирцев, 15 процентов испанцев, 13 процентов итальянцев, 8 процентов марокканцев, 4 процента тунисцев, 1,5 процента турок, 2,3 процента негров из Черной Африки (все проценты даются по переписи населения 1975 года). Эти иммигранты в большинстве своем взрослые, крепкие люди (смертность среди них заметно ниже, чем среди коренных французов); что же касается рождаемости, то тут они впереди: у выходцев из трех стран Магриба 5-6 детей в семье, у португальцев 3,3, у испанцев 2,5, у итальянцев 2. “В среднем в 1975 году этот показатель [рождаемости] составлял 3,32 у иностранцев в целом против 1,84 у французов и 1,93 у всего населения Франции”. Но как только эти иностранцы приживаются во Франции, рождаемость у них, насколько можно установить, “падает параллельно с падением рождаемости у коренных французов”467.
В эпоху экономического кризиса 70-х годов третья волна иммиграции достигла своего потолка. “Идет ли речь о временной перемене направления, в котором происходит миграция, или о коренном пересмотре самого понятия? Изучение демографической ситуации в мире заставляет думать, что в 1974 году наступила лишь временная пауза”468.
Во всяком случае, иммиграция, как мне кажется, впервые поставила перед Францией “колониальную” национальную проблему, которую на сей раз приходится решать в пределах самой Франции. Это влечет за собой политические последствия, которые затушевывают сложный феномен взаимоотталкивания, которое невозможно отрицать, как невозможно и не скорбеть о нем. Удастся ли хотя бы разграничить проблемы?Экономические проблемы.
Иностранные рабочие составляют у нас, как везде в Европе, 10 процентов активного населения. Не вызывают ли нынешний экономический кризис и безработица некоторую враждебность французских рабочих по отношению к ним? Конечно, такое случается. Но гораздо реже, чем позволяет предположить лозунг одной из политических партий: “1 500 000 безработных – значит, 1 500 000 иммигрантов лишние!”
Дело в том, что иностранцы в подавляющем большинстве выполняют черную работу, непрестижную и низкооплачиваемую, которую в девяти случаях из десяти не хотят выполнять французские рабочие. Что же делать? Выслать их? Но тут сразу обнаружится, что безработные, в основном французы, отнюдь не рвутся занять освободившиеся рабочие места… Это приводит мне на память слова архиепископа Валенсианского, сказанные в 1610 году, когда из Испании хотели выслать неугодных морисков: “А кто же будет тачать нам обувь?”469 Выслать наших иностранцев? Но тогда кто же будет прокладывать дороги, выполнять самую тяжелую работу на фабриках, черную работу на стройках? Наши соотечественники станут выполнять такую работу, только если им будут постоянно увеличивать заработную плату. Недавно были изменены условия труда парижских мусорщиков: им улучшили оборудование, сократили рабочий день и увеличили заработную плату – в результате заметно вырос процент коренных французов, занятых на этих работах.
Иммиграция как источник занятости людей на низкооплачиваемых работах существует во всяком капиталистическом обществе. То, что происходит во Франции, происходит и в других развитых странах Европы. Даже в перенаселенной Бельгии неблагодарную работу выполняют марокканцы, хотя сами бельгийцы едут на заработки во Францию. Итальяцы уже больше ста лет регулярно переселяются в Соединенные Штаты и в Южную Америку и до сих пор охотно едут на работу в Германию или Швейцарию, но при этом на рыбных промыслах в Сицилии трудятся тунисцы, ливийцы, эритрейцы… Так же обстоит дело в США, в Канаде, в промышленно развитых областях Южной Америки и Австралии – неквалифицированная рабочая сила, “голые мускулы”470, набирается либо за границей (внешний пролетариат, о котором пишет Тойнби и который можно эксплуатировать даже издали), либо внутри страны. Не так ли обстоит дело и в крупных промышленных центрах Советского Союза, где на заводах работают люди некоренной национальности?
На самом деле, иностранная иммиграция довольно точно воспроизводит внутренние передвижения населения во Франции в XIX веке и даже в начале XX века. Промышленность тех времен нашла своих пролетариев – с которыми обращались более жестоко, чем обращаются ныне,- в лице иммигрантов из сельской местности. Позже их постепенно вытеснили иностранцы – теперь уже они стали выполнять самую тяжелую работу в промышленности. Они же на первых порах частично заполнили бреши, образовавшиеся в деревне (поляки и украинцы на севере и в Эпе около 1925 года). Опустошения второй мировой войны и подъем в течение “славного тридцатилетия” привели к тому, что рабочую силу пришлось набирать за границей.
Рабочие-иностранцы часто живут весьма убого. Чтобы удостовериться в этом, достаточно, увы, заглянуть в трущобы, подвалы, бидонвили… Эти бидонвили, которые еще недавно, в 1939 году, располагались на линии бывших парижских укреплений, отодвинулись за ближние пригороды до таких далеких постов, как Мант-ла-Жоли. В департаменте Верхняя Сена в 1980 году насчитывается 220 000 иммигрантов, то есть 15 процентов населения… Один из них, пятидесятишестилетний каменщик из Алжира Мохаммед Педжаи, проживший тридцать пять лет во Франции, говорит: “После того, как я построил столько домов для французов, было бы справедливо дать мне наконец бесплатную квартиру”471. Но разве муниципальное жилье, кстати, отнюдь не бесплатное, рассчитано на семьи, где восемь-девять детей? Могут ли эти семьи “жить, как буржуа”? Для них следовало бы строить коттеджи; их и строят – один вместо сотни или даже тысячи. Кто не помнит гуманных заявлений Жака Шабан-Дельмаса, главы правительства при Жорже Помпиду, обещавшего разрушить бидонвили, словно при настоящем положении дел эти благие намерения осуществимы. Вы разрушаете один бидонвиль, хорошо, но чуть дальше тут же появляется другой. Они растут как “макумбос” или “фавеллас” в Бразилии. Тем более что начало третьей волны иммиграции в 1956 году застало Францию врасплох – она была не готова принять иностранцев. Пришлось как-то изворачиваться, но безуспешно и в ущерб для вновь прибывших.
Так что стоит ли сейчас, когда происходит экономический спад, обвинять этих рабочих в том, что они получают свою долю пособий по безработице? Упрекать в том, что своей высокой рождаемостью они способствуют дефициту социального обеспечения? Эти обвинения, вероятно, несправедливы. Но даже будь они обоснованны, все равно так ставить вопрос не следует. Иммигранты, давно живущие в нашей стране, внесли свой вклад в развитие экономики Франции, в обуржуазивание части нашего пролетариата, в повышение общего уровня жизни. И если всем нам приходится за это платить тем или иным образом, пусть даже небольшим уменьшением нашей покупательной способности, то это вполне справедливо472.Проблема расизма.
Несчастье заключается в том, что экономический кризис разжигает расовый конфликт. Он особенно обостряется в областях, где две плотные этнические группы, например французы и выходцы из Северной Африки, сталкиваются лицом к лицу, живя бок о бок в одинаковой нищете, но при этом не смешиваются и отстаивают, часто силой, свои национальные особенности.
Старая, вечно живая проблема. Она происходит от “инакости”, то есть от чувства присутствия другого, чужого человека, который отрицает ваше собственное “я”, вашу личность до такой степени, что эта рознь, истинная или мнимая, вызывает с одной и с другой стороны тревогу, презрение, страх, ненависть… Неужели для нашего существования нам необходимо противопоставлять себя другому? Национализм разобщил, разъярил Европу. Нам, французам, случалось ополчаться на испанцев, англичан, немцев… И эти господа платили нам взаимностью. Красный воротничок на мундирах прусских офицеров в 1815 году означал, по их словам, “кровь французов”, Franzosen Blut. А самое жестокое выражение, какое изобрела национальная рознь, это, наверно, презрительное speak white – говорите же, как белые люди,- так говорили англичане жителям французской Канады, причем не в шутку, а всерьез.
Все это кажется вам смешным? Но всякая эпоха несет с собой воз нечистот, глупостей, предрассудков, которые современники разделяют, даже не всегда отдавая себе в этом отчет. Вот почему книга Натаниэля Вейля “Карл Маркс – расист”473 забавляет, но не убеждает. Вейль читает письма и труды Маркса таким образом, что тот предстает “защитником рабства”: “Без рабства,- пишет он,- Северная Америка, страна наиболее быстрого прогресса, превратилась бы в патриархальную страну” (фразу эту, кстати, можно понимать по-разному). Кроме того, Маркс у Вейля – колониалист, отстаивающий превосходство белых над небелыми. В 1849 году, когда “американцы” отбирают у мексиканцев Калифорнию, он пишет: “Ничто в истории не совершалось без насилия… Можно ли сетовать на то, что Калифорния отобрана у этих ленивых мексиканцев, которые не знали, что с ней делать?” Но что это значит, по сути дела? Что невозможно жить в ту или иную эпоху и полностью избежать ее влияния, даже когда ты Маркс. Его рассуждение не проникнуто расизмом, но все же отдает ему дань. Ведь не мог же он жить в Лондоне, этом средоточии империи, и не заразиться его настроением.
А вы думаете, что сегодня в нашей стране нет расизма? Думаете, он не прячется под спудом, не вырывается на поверхность, как пузырьки, которые поднимаются со дна и проходят через всю толщу воды, чтобы лопнуть на свободе, на воздухе?
В таких случаях я люблю приводить примеры, ссылаться на подлинные происшествия, которые случаются каждый день. Один из друзей пеняет мне на это, считая это научной ошибкой. Но я уверен в своей правоте, и если читатель хочет нас рассудить, я предлагаю его вниманию два-три случая, которые произошли со мной лично. Эти мелкие происшествия, невольным участником которых я был, имеют по крайней мере то преимущество, что не относятся к разряду страшных случаев.
Я живу в Париже, в XIII округе. В моем квартале много иммигрантов, приехавших из Африки и из Азии, Как-то после обеда мы с женой спокойно идем по нашей улице и подходим к месту ее пересечения с другой, круто спускающейся с горы улицей. Внезапно я замечаю, что по этой второй улице мчится нам наперерез негритянский подросток лет пятнадцати – шестнадцати ростом метр восемьдесят, не меньше, на роликовых коньках. На полной скорости он разворачивается прямо на тротуаре, чуть не сбив нас с ног, и уносится прочь. Я возмущенно бросаю ему вслед два-три слова. Любитель роликовых коньков уже успел укатить довольно далеко, но он тут же возвращается, осыпает меня градом ругательств и восклицает в сердцах: “Дайте же нам жить!” Я не верю своим ушам, но он повторяет фразу. Выходит, я, старикашка, нарочно преградил ему путь, а мое возмущение не что иное, как расистская агрессия! В утешение я говорю себе, что юный конькобежец белой расы, быть может, вел бы себя не лучше. Десять лет назад я бы, наверно, просто надавал ему как следует.
Другая история. Как-то раз я ехал в такси, принадлежавшем компании, клиентом которой я являюсь уже пятнадцать лет. Я знаком с шофером – он родом с Мартиники, крупный, плотный, как вашингтонские шоферы-негры. Путь неблизкий. Он рассказал мне, что подрабатывает, играя по вечерам в оркестре, что он женат на француженке и у них трое детей. “Очень красивые дети,- добавил он.- Один из сыновей, дантист, женился на финке. И представьте себе, у меня беленькая внучка!” – хохочет он. Я плохо пересказал эту сцену, которая очень меня порадовала, ведь счастливый иммигрант – такая редкость! Возвращаясь вечером в другом такси – его вела молодая женщина, служащая в той же компании,- я к слову рассказал ей о нашем разговоре. Не тут-то было! Она стала сердиться, бранить шоферов-иностранцев. Я знаю ее мужа, он тоже шофер, и знаю, что у них нет детей. Почему? Они и детей ненавидят так же, как иностранцев? И тут мне захотелось, чтобы последнее слово осталось за мной: “Если бы у вас были дети, то сегодня в Париже было бы меньше шоферов-иностранцев”.
Последний случай, быть может, имеет значение только для меня. Молодая алжирка, француженка во втором поколении, студентка, говорит по радио – вы, может быть, слышали ее выступление сами,- о том, как ей грустно, о том, какое у нее плохое настроение, о том, как ей тяжело живется. Она так безупречно чисто, так красиво говорит по-французски (все-таки у французской школы есть достоинства!), что у меня, как ни странно, вдруг возникает радостное чувство: мне кажется, что хотя бы для этой девушки удача не за горами.
Но оставим эту импрессионистическую манеру. Наверно, каждый из нас может вспомнить случаи такого рода, доказательства расизма, всегда проявляющегося с обеих сторон; происходит взаимоотталкивание, питающееся самой этой взаимностью. И если антисемитизм у нас сильно ослабел со времен Эдуара Дрюмона (1844-1917), автора мерзкого памфлета “Еврейская Франция” (1866 г.), тревожит то, что он разгорается с новой силой, как тлеющий огонь, вместе с расизмом, который проявляется во Франции по отношению к другим иностранцам, труднее ассимилирующимся и все более и более многочисленным. Отсюда каждодневные трения, отсюда опасности.
Однако кто во Франции говорит о “расе”? Выходцы из стран Магриба принадлежат к белой расе, а в наших южанах есть примесь сарацинской, испанской, андалузской крови… “Поглядим на толпу в метро [парижском] или на улицах таких городов, как Лион, Марсель, Лилль, Гренобль,- говорит социолог Огюстен Барбара474.- Многообразие лиц и человеческих типов обличает разнородность этого населения и в то же время смехотворность лозунгов, которые призывают “выгнать иностранцев вон”. Население Франции – полотно, сотканное из разных этнических групп, жителей разных регионов, собравшихся вместе, к которым, благодаря различным иммиграциям, происходящим более столетия, присоединились иностранцы из европейских и других, более далеких стран”475. Столько “иммигрантов”, начиная с доисторического периода и до недавнего времени, сумели незаметно раствориться в массе французов, что можно в шутку назвать всех французов потомками иммигрантов. Не подстерегает ли разноликую Францию опасность стать еще более разноликой?Проблема культуры.
Остается последняя проблема, единственная подлинная, единственная, которая тревожит: проблема культуры. К ней, как ни к какой другой проблеме, подходят слова Бернара Стази: “В нелегких спорах об иммиграции больше всего не хватает объективности”476. Здесь тоже слова “интеграция”, “ассимиляция”, “слияние”, смысл которых безбожно абсолютизируют, заслоняют реальное положение дел.
Культурные контакты никогда не бывают простыми. Доказательство тому – еврейская проблема. Я помню историка, бывшего некогда профессором в Страсбурге. Его спрашивают, еврей ли он. Он не моргнув глазом отвечает: “Я не еврей, я француз”. Мне хочется крикнуть: браво! Но Серж Костер более точен, когда пишет недавно в анкете: “Моя родина – Франция, мой родной язык – французский, мои привязанности здесь. Но это не мешает мне питать к Израилю [имеется в виду государство Израиль], хотя это и не моя страна, негасимую любовь”477. Как-то году в 1958-м я обедал у Липпа с Рэмоном Ароном. Рэмон Арон рассказал мне какой-то случай из своей жизни и объяснил, что как еврей он должен был поступить так-то и так-то. Я ответил ему: “Но, Рэмон, какой же вы еврей, вы – лотарингец” (его семья, как и семья его знаменитого родственника Марселя Мосса, родом из Лотарингии). Я не помню, улыбнулся ли мой собеседник, но я хорошо помню, что он промолчал. И правда, сталкиваясь с различными культурами, которые ему поначалу чужды, сын Израиля умеет ассимилировать их совершенно, даже раствориться в них, по-прежнему сохраняя внутреннюю культуру, которой он дорожит, от которой он если и отрывается, то лишь до известной степени.
Однако евреев всего 14 миллионов, и они рассеяны по всему свету (во Франции их 600 000, самое большое число после США). Как получилось, что блистательные успехи диаспоры, которыми полна их история: в XVII веке в Польше, в XV в Италии, в XVI – в Испании, в XVIII – в Германии, сегодня в С111Л, Бразилии. Франции… нигде не привели к простому слиянию? Почему евреи, в отличие от многих других иммигрантов, не исчезли ни на одной из бесчисленных земель, где они находили пристанище и подолгу жили?
Быть может,- предположил недавно один журналист478, все дело в том, что “всякий раз… как группа евреев вступает на путь ассимиляции, происходит какое-нибудь потрясение, которое отбрасывает их назад, к истокам, к прошлому, полному боли и гонений, к гетто”. Если бы я встретил Рэмона Арона до 1933 года, как бы он говорил со мной? Думаю, иначе. После гитлеровской резни какой еврей, даже шокированный в глубине души некоторыми проявлениями израильского национализма, станет осуждать его вслух?
Поездка Жискара д’Эстена на Ближний Восток в 1980 году, его сочувствие палестинцам вызвали в прессе новый взрыв интереса к проблеме. “Еврейская трибуна” грозилась лишить правительство своей поддержки, в ответ на что посыпался град ругательств и обвинений самого антисемитского толка. По счастью, интеллигенция с обеих сторон призывала к здравомыслию. Но эпизод сам по себе знаменательный,
По сравнению с историей маленького еврейского народа, сумевшего едва ли не чудом пережить все гонения и сохранить свою самобытность, ассимиляция первых компактных групп иммигрантов в нашей стране покажется чрезвычайно быстрой. Однако начало было трудным и даже ужасным. В 1896 году на нашей территории было только 291 000 итальянцев, но они сконцентрировались на юге: 10 процентов в департаменте Вар, 12 – в Буш-дю-Рон, 20 – в Приморских Альпах… И этих “итальяшек” публично обвиняли в том. что они едят французский хлеб, всячески притесняли. Местные жители устраивали жестокие избиения, вели себя как расисты, в Алесе были даже случаи линчевания479. Через тридцать лет всеобщая враждебность обратилась на поляков, особенно многочисленных на севере Франции, вдвойне изолированных вследствие языкового барьера и обособленной жизни. И в том, и в другом случае католическая вера не объединяет, а, наоборот, разобщает людей. Французы насмехаются над докерами-неаполитанцами в Марселе, которые крестятся во время работы – поэтому их прозвали “кристо”. Религиозные обычаи поляков, например обычай целовать руку священнику, вызывают у жителей севера насмешки. И сама Церковь воздвигает трудности на пути этих иностранцев, которые хотят, чтобы священниками были их соотечественники: а иначе, говорят они, как же нам исповедоваться? Короче говоря, все префекты в один голос утверждают: “Поляки не способны к ассимиляции!” Но дети ходят в школу, и это играет огромную роль. А взрослые участвуют в профсоюзной жизни, вступают в политические партии (итальянцы – в коммунистическую партию). Начиная со второго поколения, в крайнем случае – с третьего, интеграция становится полной. Сегодня только фамилии да некоторые семейные традиции напоминают людям об их иностранном происхождении. И создается впечатление, что для испанцев, португальцев и итальянцев последней волны иммиграции, если оставить в стороне тех, кто, выйдя на пенсию, возвращается со своими сбережениями на родину, процесс быстрой ассимиляции тоже уже начался.
Тогда почему сегодня среди обосновавшихся у нас мусульман, в большинстве своем выходцев из стран Магриба, наблюдается противоположное явление? Дети иммигрантов во втором поколении оказались в затруднительном положении отверженных, которые и сами отвергают ассимиляцию, иногда удававшуюся их отцам и дедам. Препятствия серьезные: взаимное недоверие, страхи, расистские предрассудки, вдобавок глубокое различие верований и нравов; соседство и столкновение культур, не способных слиться воедино. Ситуация отчасти такая же, как в США, где, несмотря на сильную притягательность American way of life4*, культурные проблемы существуют. Но у нас положение гораздо более напряженное и неустойчивое, чем в США, потому что мы страна старая, а родина наших гостей – страна не менее старая и вдобавок расположенная близко от нас, рядом с нами. Туда можно добраться всего за несколько часов: приехать в наш аэропорт, долететь до аэропорта Мэзон-Бланш – и вот уже наш африканский рабочий шагает по дорогам родной Кабилии, погружается в свое детство, юность, счастье или тоску. Америка далеко: один только Атлантический океан надежно отделяет иммигрантов от их родных мест. Из Америки возвращаются домой, только если нажили состояние, да и то не всегда! Уже Эрнан Кортес, подойдя к берегам Мексики, сжег свои корабли.
Я ничего не имею против синагог и православных церквей в нашей стране. Я ничего не имею против мечетей, которые строятся во Франции, которых становится все больше и которые посещает все больше народу. Но ислам не только религия, это очень активная культура, это образ жизни. Юную африканку ее братья увезли домой и посадили под замок только за то, что она собиралась замуж за француза; сотни француженок, которые вышли замуж за североафриканцев, после развода лишились своих детей – отцы забрали их и отправили в Алжир, ибо считают, что они одни имеют право на детей,- все это не просто происшествия, они указывают на главное препятствие, с которым сталкиваются иммигранты из Северной Африки: полное несходство культур. Во Франции иммигранты имеют дело с правом, законом, которые не признают их собственного права, основанного на высшем законе – вере в Коран. Родительская власть, положение женщины, несомненно, являются главными проблемами, потому что они затрагивают фундаментальную основу общества: семью. Каждый год заключается в среднем 20 000 смешанных браков. Две трети из них впоследствии распадаются480, ибо удачный смешанный брак предполагает отказ одной, если не обеих сторон, от родной культуры. Но ведь без межнациональных браков интеграция невозможна.
Отсюда метания, страдания выходцев из стран Магриба во втором поколении, которые тяжело переживают наш экономический кризис и враждебность, с какой относятся к ним в больших городах. Многие из них имеют право называть себя французами, поскольку родились на нашей территории, но из верности своим соотечественникам или из чувства протеста отказываются от французского гражданства и подогревают в своей душе надежды на возвращение, сами не очень-то в него веря и в глубине души его не желая.
Эти страдания иногда ведут к смерти, и бывают смерти, в которых есть доля вины каждого из нас. Молодой североафриканец брошен в тюрьму в Клерво, там он кончает жизнь самоубийством, оставив странную записку: “Я подыхаю каждый день. Мне страшно больно. Меня словно рак точит. Я покидаю вас, полный ненависти и любви, которой я был лишен, любви, которую я хотел подарить”. Даже если Тахар Бен Желлун482 приукрасил это послание, все равно – какой крик души!
Другие жертвы: “Одинокие в городе, находящемся в центре Франции, без работы, без жилья, вдали от родного неба, вдали от родной земли, [два вьетнамца] не нашли в себе мужества жить. Это двойная смерть. Мы [мы, французы, обязанные проявлять радушие] не имели права допустить это”483.
Как ни прискорбны эти происшествия, воистину трагические, они не идут ни в какое сравнение с судьбой, уготованной североафриканцам, служившим во вспомогательных войсках. Подумайте только, здесь, во Франции, их больше 400 000, и наша статистика не включает их в число иммигрантов, потому что им предоставлено французское гражданство в награду за услуги, оказанные французской армии во время алжирской войны. После переговоров в Эвиане они бежали во Францию, спасаясь от резни. И вот они здесь, одни раскиданы по всей стране так же, как иммигранты, но их сторонятся, и прежде всего выходцы из Алжира, видящие в них “коллаборационистов и предателей”; другие до сих пор живут в лагерях в Биасе (департамент Ло и Гаронна), в Сен-Морис-л’Ардуаз (департамент Гар), “к которым следует добавить тридцать шесть поселений, разбросанных по лесистым областям Лозера, Лимузена, Вогезов…”484. Они живут в тесных бараках на скромную пенсию, которую выплачивает им армия, и рождают много детей, чтобы получить на них пособие и таким образом скопить немного денег… Ни они сами, ни даже их дети не могут вернуться в Алжир. Их заманили щедрыми посулами. Пришло время исполнять обещания. Мы в ответе за их судьбу, каковы бы ни были причины их верноподданнических чувств по отношению к Франции, с которой они более или менее добровольно связали свою судьбу. Признаюсь, что никакое зрелище так меня не потрясает. Однако в данном случае слезами горю не поможешь.Но только ли Франция виновата?
Как всегда, виновата не одна она. Так, разве уроженцев стран Магриба, волею судьбы надолго застрявших во Франции и пообвыкшихся здесь, а еще больше их детей, которые родились в нашей стране, так уж радушно встречают на родине, когда они приезжают туда погостить или возвращаются насовсем? Выслушаем исполненные тревоги слова одного двадцатишестилетнего алжирца, студента Лилльского университета: “Не знаю, вернусь ли я в Алжир или останусь во Франции. Кажется, будто сделать выбор просто, но на самом деле это не так, ведь это все равно, что выбирать между своей правой ногой и своей левой ногой… У себя на родине мы оказываемся иностранцами, и нам дают это почувствовать. В приютившей нас стране мы иностранцы, потому что у нас нет французского гражданства [этот студент родился в Алжире] и потому что у нас смуглая кожа”485.
Беры (прозвище, данное иммигрантам во втором поколении) действительно чувствуют себя неуютно и во Франции (независимо от того, приняли они французское гражданство, на которое имеют право, или нет), и в Алжире, где они наполовину иностранцы. Почему? Иногда тому виной их зазнайство, желание пустить пыль в глаза соседям, когда они приезжают домой на каникулы, их одежда, автомобили… Иногда также их собственное презрение: “Там,- говорит один из них, вернувшись во Францию,- жрать нечего. Прямо как в Средние века”486. Другой жалуется: “Здесь скучно, развлечься негде, да еще родные следят за каждым твоим шагом”487. Но еще больше беры раздражают тем, что они, не всегда осознанно, оскорбляют местные нравы и обычаи. Хассан, который несколько раз побывал в Париже, но не переселился туда окончательно, потому что считает, что “среди иммигрантов жизнь… очень паршивая”, говорит: “У нас есть традиции, и мы их чтим. А там, знаешь ли, человек теряет свое лицо… Молодежь, которая родилась там, во Франции, полностью утратила уважение к традициям… я так не могу… им плевать на родителей… Я даже в шестьдесят лет буду слушаться отца и мать”. Короче говоря, “как сказал один алжирский психиатр, [иммигранты опасны, ибо] несут в себе опасность модернизации, социальной эволюции”488.
Иммигранты не согласны с такой точкой зрения, они высказывают свои претензии. “Часто на улице,- говорит одна молодая алжирка,- мужчины замечают вслух: это иммигрантка, и все только потому, что я не опускаю глаза, проходя мимо них”489. Чего только не приходится делать, чтобы тебя приняли обратно в родную общину! Джамель, двадцатидвухлетний юноша, вся семья которого осталась во Франции, вернулся на родину один, потому что он “не может жить в другом месте”, потому что он чувствует себя кабилом “до мозга костей”. Он студент медицинского института в Тизи Узу. “Первые недели были трудными, и мне приходилось лезть из кожи вон, чтобы другие студенты не чурались меня… пока меня еще называют эмигрантом, но в конце концов это пройдет… Через несколько лет я стану врачом и буду работать в паршивом казенном диспансере. Все здесь оставляет желать лучшего… Но я верю в мой народ, я мечтаю, чтобы все сдвинулось с мертвой точки, и хочу этому способствовать”
Но у кого есть столько мужества, столько пыла? Амар, родившийся в Сен-Море, дважды пытался вернуться на родину. Но у него ничего не вышло. “Я ошибся, только и всего. Как-нибудь переживу. Власти твердят нам о возвращении, но все это пустой звук. Они не хотят даже палец о палец ударить, чтобы нам помочь, чтобы нас принять. Нет даже курса арабского языка, и нас все время держат за иммигрантов или парижан”490
Но, вероятно, алжирское правительство так же бессильно справиться с этими раздорами, как и наше. В 1983 году один молодой служащий министерства планирования высказывает свое мнение. Он беспощаден по отношению к иммигрантам, этим “ростовщикам”, которые возвращаются в Алжир только после того, как “сколотят состояние на валютных спекуляциях” и образуют “новую буржуазию, самодовольную и ни на что не годную”. Но он не согласен с “принудительным возвращением”, не согласен с тем, чтобы “девушке, родившейся во Франции, навязывали брак с почти не знакомым человеком”, когда она приехала на летние каникулы. “Есть,- говорит он,- реакции неприятия, которые невозможно понять. Например, в институте с иммигрантами никто не общается, их сторонятся. Над ними смеются, а на девушек смотрят просто как на проституток. Что касается иммигрантов во втором поколении, их, как правило, хватает лишь на несколько недель. Это досадно, потому что нам нужны эти новые, отличные от нас люди. Осуждать расизм во Франции – дело хорошее. Но насаждать его здесь – просто невыносимо”491.
Стоит ли в этих условиях удивляться, что недавние дебаты выявили два почти противоположных течения в самом лоне мусульманских общин Франции?
Первое продолжает бороться за возвращение к истокам, к Корану, к “искупительному исламу”. По мнению Дрисса Эль Язами, “только религия может объединить нас, выходцев из стран Магриба, даже детей военнослужащих вспомогательных войск”, только религия может сохранить магрибскую “личность” перед лицом французской492. Но не превращается ли это “перед” в “против”? Не превращается ли оно в совет французам мусульманского вероисповедания отказываться от избирательного бюллетеня как от своего рода культурного предательства? В источник конфликтов между долгом, как его понимает ислам, и обязанностями, как их толкует французское гражданское право, в отношении развода, прав родителей и т. п.?
Не в том ли состоит роль религии, что она, особенно в обществе, включающем много культур или имеющем много корней, обязана оставаться личной верой, индивидуальной моралью? В 1980 году, во время дебатов, о которых я говорил выше, Лео Амон, призывая противников к благоразумию, говорил о долге всех “французов иудейского вероисповедания”. Это, как мне кажется, долг каждого человека, желающего жить среди народа, у которого, как у нашего народа, нет официальной религии. “Право на отличие,- пишет он,- кончается там, где оно грозит развалить “общину”. В современном обществе всякий человек имеет различную принадлежность – религиозную, философскую, профессиональную, культурную, национальную. Но поскольку государство у него на этой земле только одно, он может иметь всего одно гражданство. Это обеспечивает каждому человеку полноту прав, обществу – единство… Если бы я так не думал, если бы я чувствовал себя гражданином Израиля, для меня было бы непростительно там не жить…”494.
Короче говоря, надо выбирать. К этому призывает другое направление, которое обнаруживается, в частности, в спорах вокруг избирательного бюллетеня. Белькасем, 26 лет, генеральный секретарь ассоциации алжирских рабочих во Франции, объясняет: “Известно, что 90% выходцев из стран Магриба останутся во Франции. Нашим лозунгом должно стать: мое будущее здесь, значит, я иду на выборы”495. Слиман Тир, экономист, 29 лет, создатель магрибского центра Работа – Наука – Культура в Рубе, без колебаний заявляет, что для большей части иммигрантов “реальность сегодня – это Франция”, идея же возвращения в Африку – “миф”, “бегство от реальности”. Иммигрантам следует принимать участие в политической жизни, голосовать, приобщаться к “культуре, чтобы прийти к новому гражданству”. А для этого “надо сделать выбор. Слишком много молодежи застряло, не решаясь сделать выбор”496.
“Этот выбор – первая развилка, у которой определяется весь дальнейший путь,- говорит, в свою очередь, Жан-Франсис Эльд в том же номере “Эвеиман” – Молодые беры начинают понимать, что избирательное право дает гораздо больше надежд, чем трусливое отступление к Корану или мечта о возвращении”. Они начинают думать о том времени, когда “беры, много беров своим трудом добьются успеха, станут учителями, хирургами, бизнесменами, депутатами, мэрами…” и смогут изменить “отношения с основной массой населения”497.
Дай Бог, чтобы он оказался прав! Когда этот день настанет, это будет победой уроженцев Магриба, а следовательно, и нашей победой, победой нашего общего дела. Тем более что успехи интегризма в мире грозят поражением самым искренним крестовым походам за веру. Франция, конечно, не перестала быть христианской страной, но стала терпимой в отношении веры, страсти утихли. Мы, французы, давно покончили с религиозными войнами, и все же несколько столетий, прошедшие после их окончания, еще не изгладили из нашей памяти их жестокость. Кому же хочется, чтобы на нашей земле разгорелись новые религиозные войны?