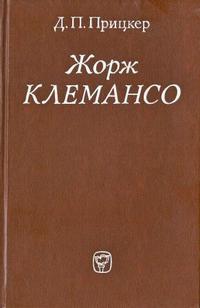Н.М. Карамзин. О древней и новой России

История человеческой мысли знает не так уж много примеров столь разительной перемены взглядов, как та, которую пережил Н.М. Карамзин между 1791 годом, когда вышли «Письма русского путешественника» и 1811 годом, когда в Путевом дворце в Твери историк прочел великой княгине Екатерине Павловне записку «О древней и новой России» и та передала её императору.
«Все жалкие иеремиады об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиогномии или не что иное, как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом высшем состоянии, – для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек!» .
«Презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях… Должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские. Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде?… Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию — неверным или братьям? т.е. кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России» .
Трудно поверить, что эти две чеканные мировоззренческие формулировки вышли из под пера одного и того же человека. Карамзин-историк поклонился тому, что сжигал Карамзин-литератор и путешественник.
Насмешки над «брадатыми предками» высказаны при описании посещения Французской Академии в своеобразном споре с автором французской «Истории России» Пьером Шарлем Левеком, критиковавшим Петра Великого за подражание другим народам и полагавшим, что русские стали бы теми же, кто они есть, даже если бы Петр не царствовал. Парадокс – в этом споре француз-просвещенец отстаивает прото-славянофильские позиции, в то время как молодой русский бравирует самым поверхностным космополитизмом.
Так что же превратило литератора, который въехал в Париж с трехцветной кокардой на шляпе и который, по мнению возмущенного масона М.И. Багрянского «обо всем что касается отечества говорит с презрением и несправедливостью поистине возмутительной, обо всем что касается чужих стран говорит с вдохновением» в автора манифеста русского консерватизма, защитника старинных обычаев и решительного критика Петра и его преобразования русского облика?
Тем идейным рычагом, который перевернул мир Карамзина стала русская история. Уже в полемике с Левеком Карамзин высказывает сожаление, что у нас пока нет складно написанной русской истории, которая внушила бы уважение к русскому прошлому не только русскому, но и иностранцу.
«Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон — вот образцы! Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословная князей, их ссоры, междоусобие, набеги половцев не очень любопытны, — соглашаюсь; но зачем наполнять ими целые томы? Что неважно, то сократить, как сделал Юм в «Английской истории», но все черты, которые означают свойство народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий: Владимир — свой Лудовик XI: царь Иоанн — свой Кромвель: Годунов — и еще такой государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества; его-то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микель-Анджело» .
Мы чувствуем здесь амбицию молодого литератора, желающего прославиться сочинением истории своего Отечества. Однако подход Карамзина к содержанию этой истории – подход типичного литератора-космополита. Он стремится разукрасить интересные страницы, выискать аналогии с европейскими героями и злодеями, мало того – готов сокращать всё то, что оказывается скучным.
Молодой Карамзин уподобляет историописание рисованию. Русская история кажется ему достойной оригинальной картины (что отличает даже молодого Карамзина от исторического нигилизма в духе первого философического письма Чаадаева), но не представляет на его взгляд оригинального предмета. По сути это та же европейская история только с другими именами. Самое небывалое явление в ней Петр Великий – именно потому, что мощным движением сблизил русский исторический поток со всеевропейским, отрекся от нравов «брадатых предков».
Проходит совсем немного времени и в предисловии к повести «Наталья – боярская дочь» Карамзин оценивает брадатую старину совсем иначе.
«Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского» .
Карамзин как писатель открывает для себя, что именно национальное своеобразие – залог поэтичности, что «славяне» интересней «людей», что русские имели значение и образ именно когда были русскими. Карамзин начинает ценить оригинальность русской истории, даже если она, пока, ограничивается для него «дизайном».
В 1790-е и начало 1800-х – время выработки патриотического и исторического мировоззрения Карамзина. Оно окончательно оформляется в статье «О любви к отечеству и народной гордости», где писатель дает связанную и цельную, хотя и лаконичную схему своего видения русской истории, вытекающую из чеканной формулы: «русский должен по крайней мере знать цену свою». Первый карамзинский эскиз русской истории – это образ славы и побед. Перед нами краткая и радостная история успеха.
«Слава была колыбелию народа русского, а победа вестницею бытия его. Римская империя узнала, что есть славяне, ибо они пришли и разбили ее легионы. Историки византийские говорят о наших предках как о чудесных людях, которым ничто не могло противиться…» .
Однако и в этот период восприятие Карамзиным русской истории остается художественным. Он видит свою задачу в том, чтобы красиво изобразить, надлежащем образом расставить акценты в русском прошлом. Слово «летопись» для него означает еще рассказ о прошлом, а не конкретный пергаменный документ, лежащий перед ним на столе.
«Я не верю той любви к отечеству, которая презирает его летописи или не занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведение о прошедшем» – это слова из открытого письма опубликованного в «Вестнике Европы» в 1802 г. «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» . Оно представляет собой перечень картин, так сказать идеальных «икон» русской истории, которые Карамзин рекомендует Академии Художеств, введшей по инициативе графа Строганова в свой устав задание художникам изображать «того из великих мужей российских, который заслуживает честь сию предпочтительно, или такого знаменитого происшествия, которое имело влияние на благо государства» .
Призвание варягов; Олег в Царьграде и Олегова смерть; княгиня Ольга; подвиги Святослава; крещение Владимира; попытка мести Рогнеды; подвиг Яна Усмошвеца; месть Ярослава за Бориса и Глеба и его просветительные труды; брак Анны Ярославны с королем Франции; Основание Москвы. Как видим, Карамзин упоминает только события древнейшего периода, преимущественно почерпнутые из «Несторовой летописи». Единственное исключение он делает для призыва установить монумент героям одоления русской смуты: «В Нижнем Новегороде глаза мои ищут статуи Минина, который, положив одну руку на сердце, указывает другою на Московскую дорогу». Призыв этот вскоре был услышан и воплощен с гораздо большей основательностью.
Как видим, и 11 лет спустя после «Писем русского путешественника» в сознании Карамзина господствует представление о русской истории как красочной картине, но только побудительным желанием написать её является уже не сравнение с историей Европы, а патриотическое стремление оставить русскому гражданскому обществу ряд мемориалов – в слове, живописи и бронзе. Карамзин мечтает заниматься русской историей, однако по прежнему мыслит это дело как возможность «сочинять русскую историю, которая с некоторого времени занимает всю мою душу» .
Его политическая философия становится, впрочем, далеко уходит от революционного легкомыслия путешественника более консервативной. Его мысль развивается теперь в русле консервативной волны, зачинателем заслуженно должен быть признан Эдмунд Бёрк, а её выдающимися представителями могут быть названы Франсуа Рене Шатобриан, Жозеф де Местр, Адам-Генрих Мюллер. И Карамзину в этой плеяде принадлежит, несомненно, особое место.
Основу этого консервативного движения составляли разочарованные просвещенцы – носители идеалов прогресса, прав человека, сторонники теорий естественного права и общественного договора, зачастую — масоны. Революционная анархия, хаос, кровавое надругательство над правами человека во имя «прав человека» не просто оттолкнули их, но заставили пересмотреть сами основы своей философии. Консерватизм сформировался именно как философия пост-просвещения, просвещения поверенного революционной катастрофой.
Своеобразное резюме этой новой философии Карамзин дал еще в 1802 году в небольшой статье «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени»:
«Мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства; что, разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти; что самое турецкое правление лучше анархии, которая всегда бывает следствием государственных потрясений; что все смелые теории ума, который из кабинета хочет предписывать новые законы нравственному и политическому миру должны остаться в книгах вместе с другими, более или менее любопытными произведениями остроумия; что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума; что одно время и благая воля законных правительств должны исправить несовершенства гражданских обществ; и что с сею доверенностию к действию времени и к мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и делать все возможное добро вокруг себя».
Нетрудно обнаружить те же самые тезисы и у других мыслителей первой консервативной волны: любая государственность хуже анархии; традиционная государственность защищает человека от несравненно более худшей тирании; традиционная государственность работает на топливе древности, во многом магическом и непостижимом; тайна старинных учреждений, тайна власти есть иррациональный элемент разумного государственного порядка, напротив – рациональные попытки обустроить государство в соответствии с новыми законами, если перенести их из сферы мечты в реальную жизнь, порождают лишь иррациональность и хаос; подлинное исправление дурных черт существующего порядка должны исходить от времени и легитимной власти, которой надлежит повиноваться, почитая сложившийся порядок священным.
Ядро консерватизма как пост-просвещения заключается в тотальном отказе от доверия к «здравому смыслу» понимаемому как частное, индивидуальное отражение всеобщего простого ума, очищенного от ошибок и суеверий.
Просветительский проект в его наиболее заметной и шумной части, именуемой «вольтерьянством», состоял именно в «борьбе с суеверием» – раздавите гадину! Предполагалось очистить человеческий ум от предрассудков, связанных с религией, со старинными учреждениями и тяжелым наследием феодализма, поставить на рациональную основу экономику (идея порядка, вытекающего из взаимовыгодного разделения труда под воздействием разумного эгоизма у Адама Смита), политику (идея общественного договора), религию (религия в пределах только разума, деизм и т.д.). Этот проект, разумеется, предполагал веру в прирожденность человеку здравого ума, порождая мифологему «доброго дикаря».
И вот здесь мы встречаемся с парадоксом просвещенческой логики, на который, на мой взгляд, не обращалось должного внимания. В рамках мифологемы «благородного дикаря» – от Монтескье до Вольтера и Руссо примитивное состояние общества является естественным, продуктом простого, чистого и прирожденного ума. Однако это допущение предполагает, что за периодом рациональной простоты наступила эпоха затемнения, в ходе которой и возникли все те особенности, отличающие цивилизованного человека от естественного: государство, частная собственность, развитая религия, экономика, всевозможные социальные правила, предрассудки и суеверия. Можно, конечно, сделать вид, что эпохой затемнения были лишь темные века средневековья, когда христианство и феодализм затмили великую древнюю цивилизацию. По такому пути пошел Эдуард Гиббон в «Истории упадка и падения Римской Империи». Но минимальное внимание к фактам показывает – ключевые феномены затемненного порядка, неравенство, рабство, суеверия имели место и процветали и в античности.
Таким образом, принцип прогресса в просвещенческой картине приходит в противоречие с принципом прирожденного доброму дикарю чистого ума. Тысячелетия истории цивилизации – развитие ремесел, права, государственных учреждений, науки, искусства – всё это – затемнение, на смену которому пришло Просвещение XVIII века. Значит, Просвещение, по логике вещей, должно состоять в разрушении последствий затемнения, уничтожении цивилизации, торжестве нового варварства. Большинство просвещенцев, конечно, такой мысли избегали, хотя Руссо не испугался и её.
Две линии просвещенческой мысли – идея прирожденной чистоты ума у доброго дикаря и идея прогресса пришли в чувствительное противоречие между собой. Великая Французская Революция пошла, по сути, по пути руссоистского нового варварства. Возникший как ответ на неё консерватизм пошел по пути прогрессизма.
Именно поэтому уместно говорить о консерватизме как о пост-просвещении, а не как об анти-просвещении. Консерватизм принимает и развивает идею прогресса. Большинство консерваторов первой волны последовательно проводят принцип накопления блага, прогресса как движения от худшего к лучшему, и консерватизм мыслится как забота о сохранении уже накопленных позитивных результатов от разрушения новым варварством.
«Прогрессизм» эпохи Просвещения выявлял себя через идею разрушения всех «препятствий к прогрессу», каковыми, в скорости, оказались все общественные установления и даже психология самих людей. Прогрессизм же консерваторов сосредоточен на идее накопления, преемственности.
В этом смысле особенно характерен Эдмунд Бёрк, рисующий мир как грандиозное предприятие, в противоположность Адаму Смиту, которому мир представляется торговой сетью из мелких лавочников. Поскольку цели этого предприятия превышают продолжительность жизни одного поколения, оно требует партнерства живых, умерших и еще не родившихся. Поскольку предприятие требует источников энергии, то нужны сообщества, эту энергию генерирующие – и один из видов таких сообществ, уничтожавшихся революционерами: «рассадники суеверий» – монастыри. Поскольку предприятие возможно лишь при накоплении позитивного результата, то для обеспечения этого накопления необходимы механизмы политического наследия и экономического наследования. Наконец, поскольку длительное предприятие требует определенных незадокументированных навыков, Бёрк формулирует теорию предрассудка, превращающего добродетель в привычку. Предрассудок, таким образом, оказывается продуктом социального профессионализма. Опыт, традиции, старинные предания, привычки, хартии, установления, гербы, — всё это не пелены на глазах чистого разума, а напротив – подпорки, расширения и украшения ума. То, что у просвещенцев препятствует прогрессу как «большой чистке», в консервативной парадигме, напротив, является его основой.
Если посмотреть на теоретическую конструкцию Бёрка как целое, то именно в ней, а не в лавочническом мирке Адама Смита мы обнаружим подлинную философию промышленной революции. И не случайно прослеживается прямая связь между идеями Бёрка, идеями Адама Мюллера, последовательного критика смитианства, и идеями интеллектуального наследника Мюллера в Германии – Фридриха Листа, создавшего концепцию накопления и развития производительных сил, объединяющих материальные и духовные факторы.
Другими словами, консерватизм первой волны – это последовательный прогрессизм в противоположность новому варварству революции. Идея сохранения равна идее накопления и наследования позитивных результатов. Для западноевропейского консерватизма это сопряжено с различными формами неокатолицизма – от ультрамонтанства во Франции до криптокатолицизма у ирландца Бёрка. Христианское откровение как технология улучшения человека противопоставляется «благородному дикарю». Особенно это подчеркнуто в «Атале» Шатобриана, где дикие дикари облагораживаются как раз под воздействием христианской проповеди.
Карамзин – безусловно, консервативный прогрессист. Особенно в этом смысле характерна переписка Мелодора и Филалета, созданная им в 1795 году. Мелодор, разочарованный просвещенец, формулирует в ней две основные антипрогрессистские концепции: концепцию исторической цикличности — «Сизифова камня» и концепцию «затемнения».
«Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен действием какого-нибудь чудного и тайного закона ниспадать с сей высоты, чтобы снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оного, подобно Сизифову камню, который, будучи взнесен на верх горы, собственною своею тяжестию скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? — Горестная мысль! печальный образ!» – такова циклическая модель, которую Мелодор дополняет моделью «затемнения»:
«Египетское просвещение соединяется с греческим: первое оставило нам одни развалины, но великолепные, красноречивые развалины; картина Греции жива перед нами. Там все прельщает зрение, душу, сердце; там красуются Ликурги и Солоны, Кодры и Леониды, Сократы и Платоны, Гомеры и Софоклы, Фидии… Что ж последовало за сей блестящею эпохою человечества? Варварство многих веков, варварство ума и нравов — эпоха мрачная — сцена, покрытая черным флером для глаз чувствительного философа! Медленно редела, медленно прояснялась сия густая тьма. Наконец, солнце наук воссияло, и философия изумила нас быстрыми своими успехами».
Однако Филалет, любитель истины, представляющий новую философскую парадигму Карамзина, отвечает на это – никакого сизифова камня, никакого прерывания прогресса нет:
«История застала людей во младенчестве, в начальной простоте, которая не совместна с великими успехами наук. Даже и в Египте видим мы только первые действия ума, первые магазины знаний, в которых истины были перемешаны с бесчисленными заблуждениями. Самые греки — я люблю их, мой друг; но они были не что иное, как — милые дети!
Для чего и теперь не думать нам, что века служат разуму лестницею, по которой возвышается он к своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно?
Ты указываешь мне на варварство средних веков, наступившее после греческого и римского просвещения; но самое сие, так называемое варварство (в котором, однако ж, от времени до времени, сверкали блестящие, зрелые идеи ума) не послужило ли в целом к дальнейшему распространению света наук? Дикие народы севера, которые в грозном своем нашествии гасили, подобно шумному дыханию Борея, светильники разума в Европе, наконец сами просветились, и новый фимиам воскурился музам на земном шаре.
Сизиф с камнем не может быть образом человечества, которое беспрепятственно идет своим путем и беспрестанно изменяется. Прохладим, успокоим наше воображение и мы не найдем в истории никаких повторений. Всякий век имеет свой особливый характер, — погружается в недра вечности, и никогда уже не является на земле в другой раз».
Вот он шаг к подлинному историзму – “всякий век имеет свой особливый характер”. Историческое необходимо рассматривать как особенное, как состоявшееся, как фактически данное. При этом совокупность этих фактических данностей создает эффект исторического накопления, благодаря которому народу движутся ко все большему совершенству, а жизнь рода человеческого пусть и не всегда последовательно улучшается. Уважать данность истории – вот предпосылка к её истинному пониманию.
31 октября 1803 года Карамзин высочайшим повелением назначен историографом с окладом в две тысячи рублей, а главное – правом «читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках, от святейшего Синода зависящих, древние рукописи, до российских древностей касающихся». Карамзин порывает с литературой и публицистикой, уходит в подполье, публика обеих столиц практически почитает его почти за умершего.
Вместо того, чтобы сочинять историю он берется её изучать и проявляет в этом исключительное упорство и усидчивость совершенно не ожидаемые публикой от модного литератора. Счастьем и самого Карамзина и русской истории стало его исключительное трудолюбие.
Карамзин становится источниковедом – археографом, палеографом, лингвистом, историческим географом, текстологом. В дружном коллективе «колумбов российских древностей» – Н.П. Румянцев, А.Н. Мусин-Пушкин, П.М. Строев, А.Ф. Малиновский – Карамзин становится тем локомтивом, который задает направление и смысл архивных поисков. Так найдены Ипатьевская и Троицкая летописи, «Судебник» Ивана Грозного, «Хождение» игумена Даниила в Святую Землю и «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Моление Даниила Заточника».
Открывшийся как Америка дивный мир подлинных русских древностей совершенно отбивает у Карамзина охоту «раскрашивать» и «сокращать». Его новым наслаждением становится удовольствие от подлинности. Его художественным методом – отказ от вымыслов, домыслов и той самой картинности, к которой он стремился в предыдущее десятилетие. Карамзин как ребенок радуется нахождению Ипатьевской летописи, несмотря на то, что ему приходится теперь переписать огромную часть своего труда: «Я не спал несколько ночей от радости. <…> Она спасла [меня] от стыда, но стоила шести месяцев работы…» .
В письме брату от 6 июля 1808 г. следует новая декларация, столь противоположная былым парижским мечтам «путешественника»:
«В труде моем бреду шаг за шагом, и теперь, описав ужасное нашествие татар, перешел в четвертый-на-десять век. Хотелось бы мне до возвращения в Москву добраться до времен Димитрия, победителя Мамаева. Иду голою степью; но от времени до времени удается мне находить и места живописные. История не роман; ложь всегда может быть красива, а истина в простом своем одеянии нравится только некоторым умам открытым и зрелым. Если Бог даст, то добрые россияне скажут спасибо или мне, или моему праху».
Сравнение первых веков русской истории с «пустыней» с «сушью» постоянно встречается в переписке Карамзина и показывает насколько непросто давалось художнику смирение перед историей. Пушкину в его разгромном ответе Полевому на нападки того на «Историю», не случайно чудится в Карамзине нечто иноческое. Изысканный беллетрист стяжавший простоту и смирение древних летописцев вызывает изумление.
И вот уже в предисловии к изданию своего труда Карамзин читает своеобразную нотацию тому мальчишке, который намеревался раскрашивать и сокращать историю как книжку с картинками:
«История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные…
Историк России мог бы, конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, о составе Государства, представить важные, достопамятнейшие черты древности в искусной картине и начать обстоятельное повествование с Иоаннова времени, или с XV века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире: он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных страниц, вместо многих книг, трудных для Автора, утомительных для Читателя. Но сии обозрения , сии картины не заменяют летописей…
Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней Истории; но добрые Россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?..
Здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда отлучил Дееписание от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных Героями веков. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвященную не славе Писателя, не удовольствию Читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы…
Тем непозволительнее Историку, для выгод его дарования, обманывать добросовестных Читателей, мыслить и говорить за Героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого» .
От раскрашивания картин и сокращения скучных страниц к диктату подлинности, к предпочтению меди факта золоту вымысла – таков путь исторической аскезы Карамзина.
Записку «О древней и новой России» невозможно понять, если не учитывать этого опыта. Более того, записка представляет собой политическое резюме этой исторической аскезы, заключает в себе призыв к императору следовать в политике тем принципам, которые трудом и душевной мукой выработал для себя Карамзин применительно к истории.
Смысловой центр записки – формула: «Старому народу не нужно новых законов». Карамзин уговаривает императора отказаться от «раскрашивания» России, от сокращения её скучных реальностей ради почерпнутых в Европе фантазий. Тысяча лет истории накладывает жесточайшую узду на фантазирование и политическое прожектерство. «Для того ли существует Россия, как сильное государство, около тысячи лет? Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного Уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6-ю или 7-ю экс-адвокатами и экс-якобинцами?» .
Внимательное чтение обращенных к императору Александру I документов – записки «О древней и новой России» и «Мнения русского гражданина» показывает насколько несправедлив и пристрастен был Пушкин с его эпиграммой: «В его «Истории» изящность, простота / Доказывают нам, без всякого пристрастья, / Необходимость самовластья / И прелести кнута». «История» Карамзина и базирующиеся на выводах из неё политические сочинения историографа посвящены, в сущности, одной теме – теме ограничения самовластья государей, теме пределов власти, теме непригодности кнута как инструмента принуждения подданных к принятию того, с чем несогласна их совесть.
Отличие консерватора Карамзина от «либералистов» в том, что он видит принцип этого ограничения самовластия, эту своеобразную русскую конституцию не в вывезенных из Европы фантастичных учреждениях, а в самой русской истории. Старость народа, выраженность его исторической судьбы, весомость исторического факта, ясность нравственного состояния народа, когда он постиг свои собственные исторические начала, всё это яснейшее и очевиднейшее ограничение любого деспотизма и произвола. Самодержец может преступить через людскую волю и закон, поскольку он выше воли и закона, но он не может без чудовищных последствий переступить через русскую историю и народную совесть, этой историей выработанную.
Русская история для Карамзина и есть единственная истинная конституция.
С наибольшей ясностью, угловатостью, даже в чем-то дерзостью этот «исторический конституционализм» Карамзина проявляется в «Мнении русского гражданина» оппонирующем планам подстрекаемого Чарторыйским императора восстановить Польшу в границах до раздела 1772 года. Характерно уже заглавие – «гражданина», а не «верноподданного». В этом документе Карамзин увещевает, убеждает и даже угрожает и сам признается в записках детям в своей уверенности, что это обращение приведет к разрыву его отношений с императором (чего, впрочем не случилось).
Территориальная целостность державы, формировавшейся тысячелетие, – выше воли отдельного монарха. Сохранение целостности государства – неотъемлемая монаршая обязанность. Что досталось в наследство от предков должно быть передано потомкам в целости. Пришедшее из истории, состоявшееся в истории должно быть нерушимо и свято.
«Можете ли с мирною совестию отнять у нас Белорусию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную собственность России еще до Вашего царствования? Не клянутся ли Государи блюсти целость своих Держав? Сии земли уже были Россиею, когда Митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра и Екатерины, которую Вы Сами назвали Великою. Скажут ли, что Она беззаконно разделила Польшу? Но Вы поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить Ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли Польшу мечем: вот наше право, коему все Государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний. Екатерина ответствует Богу, ответствует Истории за свое дело; но оно сделано, и для Вас уже свято: для Вас Польша есть законное Российское владение. Старых крепостей нет в Политике: иначе мы долженствовали бы восстановить и Казанское, Астраханское Царство, Новогородскую Республику, Великое Княжество Рязанское, и так далее. К тому же и по старым крепостям Белорусия, Волыния, Подолия, вместе с Галициею, были некогда коренным достоянием России. Если Вы отдадите их, то у Вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литве. Или все, или ничего. Доселе нашим государственным правилом было: ни пяди, ни врагу, ни другу! Наполеон мог завоевать Россию; но Вы, хотя и Самодержец, не могли договором уступить ему ни одной хижины Русской. Таков наш характер и дух государственный» .
Дух истории говорит через народную совесть. Говорит даже тогда, когда она молчит. Эта тема молчаливого безгласного неприятия, которое на большой исторической дистанции страшнее громких парламентских и площадных криков – сквозная у Карамзина и, в конечном счете, спрессуется у Пушкина в гениальную ремарку: «Народ безмолвствует», вне карамзинистского контекста совершенно непонятную.
«Вы, любя законную свободу гражданскую, уподобите ли Россию бездушной, бессловесной собственности? Будете ли самовольно раздроблять ее на части и дарить ими, кого за благо рассудите? Россия, Государь, безмолвна перед Вами; но если бы восстановилась древняя Польша (чего Боже сохрани!) и произвела некогда Историка достойного, искреннего, беспристрастного, то он, Государь, осудил бы Ваше великодушие, как вредное для Вашего истинного Отечества, доброй, сильной России. Сей Историк сказал бы совсем не то, что могут теперь говорить Вам Поляки; извиняем их, но Вас бы мы, Русские, не извинили, если бы Вы для их рукоплескания ввергнули нас в отчаяние» .
«Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием» – таково карамзинское резюме своей долгой работы по постижению русской истории. Это два важнейших для Карамзина термина, которые ни в коем случае нельзя путать – “единовластительство” и “самодержавие”.
Единовластительство – понятие территориальное и геополитическое. Оно означает единство пространства русской державы, её не разделенность на уделы, возвращение отторгнутого, удержание того, что отторгнуто нами. Территориальная протяженность России и её способность запустить ход большой истории, того самого прогресса, на огромных ледяных пространствах – такова для Карамзина главная заявка России на чрезвычайное историческое величие, превосходящее даже римлян. Эта единая держава является в истории единственной.
«Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков Африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, хладными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну Державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разновидных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке Россия имеет своих Диких; подобно другим странам Европы являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть Русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внеся их в общую систему Географии, Истории, и просветил Божественною Верою».
Русская история для Карамзина – это история территориального возрастания и обретения большим пространством единства – единовластительства. И инструментом этого единовластительства является для него самодержавие, то есть бесконечное превосходство осуществляющей единовластительство монархической власти над силами, которые вносят в общество рознь – аристократией и демократией в лице боярства и граждан.
«Если Рим спасался диктатором в случае великих опасностей, то Россия, обширный труп после нашествия Батыева, могла ли оным способом оживиться и воскреснуть в величии? Требовалось единой и тайной мысли для намерения, единой руки для исполнения: ни шумные сонмы народные, ни медленные думы Аристократии не произвели бы сего действия».
Мысль Карамзина здесь – это известного рода макиавеллизм. Самодержавие – не посланная Богом сакральная власть, как для традиционных монархистов, а своего рода диктатура, чрезвычайное средство, которое позволило России в чрезвычайных обстоятельствах иметь известные преимущества над врагами – тайну замысла, скорость и четкость исполнения.
Здесь Карамзин доходит даже до своеобразной апологии ханского владычества (не имеющей, впрочем, ничего общего с евразийской идеологией, культурное влияние монголов Карамзин категорически отрицает). Власть ханов позволила княжеской монархической власти восторжествовать над вечевой демократией и как удельной, так и боярской аристократией, тем самым сэкономив усилия, которые европейские владыки затратили на борьбу с противодействием других начал.
Уже современник Карамзина, не говоря уж о нашем, мог бы резонно возразить, что начала современного демократического развития Европы и правового государства были заложены именно этой «борьбой властей», от которой ханы избавили Россию. Выработалась та система сдержек, которой в России не было – ни одна частная сила не могла противостоять самовластию московского государя.
На это Карамзин, несомненно, ответил бы, что Европа потратила на борьбу королей с аристократией и народом именно те столетия, которые Россия потратила на обеспечение своего выживания после монгольского уничтожения. У России просто не было ресурса на такую борьбу, и если она хотела развиваться, то должна была развиваться по единой мысли и воле самодержавия.
Именно Карамзин разработал теорию отставания России, являющегося следствием монгольского завоевания. Это типично «прогрессистская» по своей логике теория, изложенная в 4-й главе V тома «Истории». Первоначально Россия, находящаяся под влиянием не затронутой варварским вторжением Византии, стоит выше Европы темных веков, превосходит их и единством, и уровнем развития. Однако русские междоусобицы становятся фактором сдерживания, и уже в XIII веке намечается отставание, которое могло быть преодолено своевременным введением самодержавия. Однако вместо этого на Россию обрушивается нашествие Батыево, которое «ниспровергло Россию».
«Сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в то самое время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножались, народ освобождался от рабства, города входили в тесную связь между собою для взаимной защиты в утеснениях; изобретение компаса распространило мореплавание и торговлю; ремесленники, художники, Ученые ободрялись Правительствами; возникали Университеты для вышних наук; разум приучался к созерцанию, к правильности мыслей; нравы смягчались… В сие же время Россия, терзаемая Монголами, напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть: нам было не до просвещения!»
Карамзин, таким образом, прибегает здесь к образности «затемнения». Но с совершенно противоположным смыслом. В России не упадок, а задержка развития просвещения, связанная с борьбой за выживание. Однако даже в этот период отставание является не полным, — как пример продолжения прогресса Карамзин приводит употребление бумаги и артиллерии. Зато в XV веке при Иване III Россия является на мировую сцену более собранной, деятельной, эффективной, чем большинство её соседей.
Не забудем, что для Карамзина и его современников лучшей апологией Самодержавия была историческая судьба Польши, где монархия полностью проиграла аристократическим силам, и это привело к коллапсу государственности. На фоне этого примера большая эффективность самодержавия по сравнению с аристократией была самоочевидной. Равно как судьба первой республики во Франции символизировала само собой разумеющуюся нищету демократии. Борьба же властных начал делает государство бессильным на пути к его главной цели. В русском случае – на пути к единовластительству, формированию могущественного территориального владения.
Самодержавие есть главный факт русской истории. Такой факт, на котором основываются все остальные факты. Именно самодержавный замысел и самодержавная воля движут Россию сквозь пространство и время.
Но самодержавие не есть тирания. Меньше чем к кому-либо из живших на земле историков к Карамзину относится несправедливая фраза про «прелести кнута». Карамзин, наряду со служившим ему образцом для подражания Тацитом, – один из самых враждебных к тирании историков – он не готов оправдать жестокости, преступления и самодурство никаким «объективно прогрессивным смыслом». Отсюда его пристрастность и даже порой несправедливость как к Ивану Грозному, так и к Павлу I, из которых он создал образ своего рода двуглавого тирана. Читая характеристику пережитого самим Карамзиным павловского правления в записке «О древней и новой России» трудно отделаться от мысли, что именно здесь он черпал вдохновение для мрачных страниц, посвященных опричнине.
Консерватизм Карамзина проявляется не в оправдании тиранства, а в неприятии революционных и либеральных методов его предотвращения. Он посвящает очень болезненные для императора Александра Павловича строки разбору недопустимости дворцовых переворотов как средства против тирании. А ведь тиранизм Павла был для Александра единственным самооправданием в косвенном участии в отцеубийстве. Тирания, на взгляд Карамзина, явление настолько редкое в русской истории, что дешевле будет перетерпеть её как стихийное бедствие, нежели предаваться тираноубийству, рискуя сотрясением всего государства и падением народного уважения к власти.
«Мудрость веков и благо народное утвердили сие правило для Монархий, что закон должен располагать троном, а Бог, один Бог, жизнию Царей. Кто верит Провидению, да видит в злом Самодержце бич гнева Небесного! Снесем его, как бурю, землетрясение, язву, – феномены страшные, но редкие, ибо мы в течение 9 веков имели только двух тиранов; ибо тиранство предполагает необыкновенное ослепление ума в Государе, коего действительное счастие неразлучно с народным, с правосудием и с любовию к добру. Заговоры да устрашают народ для спокойствия Государей! Да устрашают и Государей для спокойствия народов. Две причины способствуют заговорам: общая ненависть или общее неуважение к Властителю. Бирон и Павел были жертвою ненависти, Правительница Анна и Петр III – жертвою неуважения. Миних, Лесток и другие не дерзнули бы на дело, противное совести, чести и всем уставам Государственным, если бы сверженные ими властители пользовались уважением и любовию Россиян» .
Дальше следует центральное для политической философии Карамзина рассуждение, которое достойно максимально полного цитирования:
“Одни хотели, чтоб Александр к вечной славе своей взял меры для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе, другие, сомневаясь в надежном успехе такого предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему Екатеринина Царствования, столь счастливую и мудрую в сравнении с системою Павла. В самом деле, можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной Царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят: “Можно; надобно только поставить закон еще выше Государя”. Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые Государем или Государством? В первом случае они угодники Царя, во втором – захотят спорить с ним о власти; вижу Аристократию, а не Монархию. Далее: что сделают Сенаторы, когда Монарх нарушит устав? Представят о том его Величеству? А если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ? Всякое доброе Русское сердце содрагается от сей ужасной мысли. Две власти Государственные в одной Державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга; а право без власти есть ничто.
Самодержавие основало и воскресило Россию; с переменою Государственного Устава ее, она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданския пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей махине производить единство действия? Если бы Александр, вдохновенный великодушною ненавистию к злоупотреблениям самодержавия, взял перо для предписания себе иных законов, кроме Божиих и совести, то истинный добродетельный гражданин Российский дерзнул бы остановить его руку и сказать: “Государь! ты преступаешь границы своей власти: наученная долговременными бедствиями, Россия пред Святым Олтарем вручила Самодержавие Твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание Твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!..”…
Наш Государь имеет только один верный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях власти: да царствует добродетельно! Да приучит подданных ко благу! Тогда родятся обычаи спасительные; правила, мысли народные, которые лучше всех бренных форм удержат будущих Государей в пределах законной власти. Чем? Страхом возбудить всеобщую ненависть в случае противной системы царствования. Тиран может иногда безопасно господствовать после тирана, но после Государя мудрого – никогда! “Сладкое отвращает нас от горького”, сказали послы Владимировы, изведав веры Европейские”.
Рассуждая о том методе, который Александру надлежит применить для недопущения тирании и ограничения самовластия Карамзин с наибольшей ясностью формулирует свой принцип исторической аскезы как единственного подходящего России способа недопущения самодурства власти, как единственной российской конституции.
Ограничить самодержавие введением каких-то разнодействующих ему властей значит ограничить действующую силу русской истории, рассредоточить Россию и посеять вражду в её гражданах и сословиях. Противоречие, на взгляд Карамзина, в русском случае является не двигателем истории, а её тормозом, как в «Лебеде, раке и щуке» другого знаменитого русского консерватора той эпохи – И.А. Крылова.
Либеральному способу ограничения самовластия через разделение властей, через взаимное уравновешивание несогласий и противоречий, примиряемых «невидимой рукой» и «хитрым разумом», Карамзин противопоставляет консервативное понимание ограничения зла через накопление блага, через приятие и продолжение наследия – «обычаи спасительные; правила, мысли народные».
Благодетельное царствование предыдущего правителя создает для следующего суженный коридор возможностей в коем тирания невозможна, так как будет не осуществима и не принята гражданским обществом. «Тиран иногда может господствовать после тирана, но после государя мудрого – никогда». Самодержавие же, направленное ко благу, сохранит свою полную силу. Добро в прошлом уменьшает вероятность зла в будущем, оставляя добру в будущем полную свободу.
Понимание консерватизма как концентрации благого наследия задет прямое преемство Карамзина с Бёрком («славным Борком» как он называет его в «Письмах русского путешественника»). Интерес Карамзина к английской исторической и политической традиции несомненен и мимо его внимания не прошли гремевшие на всю Европу «Размышления о революции во Франции где сказано следующее:
«Люди не станут думать о своем потомстве, если оно, в свою очередь, не будет оглядываться на предков… Идея наследия питает собой надежный принцип передачи, отнюдь не исключая принципа совершенствования. Идея эта оставляет простор для приобретения нового, но она обеспечивает сохранность приобретенного… Политические установления, богатство и дары Провидения все они сходным образом передаются нам, а затем от нас далее…» .
Однако идею наследия как ограничения произвола мы у Бёрка не находим. Она, по всей видимости, составляет совершенно оригинальный вклад Карамзина в сокровищницу консервативной мысли.
Совершенно оригинальна идея Карамзина о самодержавии ограниченном самодержавием, проходящая сквозь записку «О древней и новой России» мысль о том, что самодержец не может отказаться от самодержавия, что ограничение самодержавной власти значило бы самовольное преступление положенных ей пределов.
Русский самодержец вместе с мономаховым венцом принимает на себя многотрудный аскетический подвиг продолжения русской истории, сообразования себя с нею. Он не может предаваться легкомысленным фантазиям и мечтам, не может демонстрировать самовластия в эгоистическом легкомыслии.
Карамзин рисует такой образ легкомысленного самодержавия, разрушающего государство, в лице Лжедмитрия, в котором трудно не узнать злую пародию на «дней Александровых прекрасное начало». Потеря властью уважения порождает нечто горшее чем тирания – мятеж (тут вспомним, что царствование Александрово породило в итоге именно мятеж и подивимся прозорливости Карамзина).
«Он имел некоторые достоинства и добродушие, но голову романическую и на самом троне характер бродяги; любил иноземцев до пристрастия, и не зная Истории своих мнимых предков, ведал малейшие обстоятельства жизни Генриха IV, Короля Французского, им обожаемого. Наши монархические учреждения XV и XVI века приняли иной образ: малочисленная Дума Боярская, служив прежде единственно Царским Советом, обратилась в шумный сонм ста правителей мирских и духовных, коим беспечный и ленивый Димитрий вверил внутренние дела Государственные, оставляя для себя внешнюю политику; иногда являлся там и спорил с Боярами к общему удивлению, ибо Россияне дотоле не знали, как подданный мог торжественно противоречить Монарху. Веселая обходительность его вообще преступила границы благоразумия и той величественной скромности, которая для Самодержавцев гораздо нужнее, нежели для монахов Картезианских… Россияне перестали уважать его, наконец, возненавидели и, согласясь, что истинный сын Иоаннов не мог бы попирать ногами Святыню своих предков, возложили руку на Самозванца.
Сие происшествие имело ужасные следствия для России; могло бы иметь еще и гибельнейшие. Самовольные управы народа бывают для Гражданских Обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений Государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного изступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану властителей. Москвитяне истерзали того, кому недавно присягали в верности: горе его преемнику и народу!» .
Однако страх мятежа, несогласия, народного протеста, неприятия народной совести является для Карамзина не столько предметом ужаса, как для реакционеров, сколько исполнительным органом на суде истории над недостойными государями.
Даже великий государь, как Петр I, когда насилует народную совесть и искажает народный облик и душу, отрекается от преемственного хода русской истории, чтобы её «раскрасить», в уплату за это опасно сближается с тираном.
«Еще народные склонности, привычки, мысли имели столь великую силу, что Петр, любя в воображении некоторую свободу ума человеческого, долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, впрочем, столь верных подданных. Тайная Канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования Государственного. Многие гибли за одну честь Русских кафтанов и бороды, ибо не хотели оставить их и дерзали порицать Монарха. Сим бедным людям казалось, что он, вместе с древними привычками, отнимает у них самое Отечество» .
Просветительство и свободомыслие в сочетании с разрывом исторической традиции порождают лишь деспотизм и пытки ради насаждения западного обычая и непрошенной «свободы». Здесь снова предупреждение Александру с его реформаторскими порывами.
Утрата доверенности народа – высший суд и приговор за нарушение исторической конституции России. Карамзин не одобряет мятежей и переворотов, но грозится царям народным мнением и народным молчанием, как в «Мнении русского гражданина», предрекая Александру в случае восстановления Польши разрыв живой связи с гражданами.
«Я слышу Русских, и знаю их: мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к Царю: остыли бы душою и к Отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением Государства, но и духом; унизились бы пред другими и пред собою. Не опустел бы конечно дворец; Вы и тогда имели бы Министров, Генералов: но они служили бы не Отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наемники, как истинные рабы… А Вы, Государь, гнушаетесь рабством, и хотите дать нам свободу!» .
Гражданин, живой и деятельный участник русской истории уступит место молчаливому верноподанному, рабу, механически или из личной выгоды исполняющему любую волю исходящую от престола – такая гражданская казнь, ужасающая из возможных, ждет на взгляд Карамзина монарха, преступившего закон русской истории.
Не удивительно, что «Записка» Карамзина произвела сильное впечатление на Александра I и содействовала эволюции его политической линии. В лице историографа император столкнулся не с ретроградом, не с придворным интриганом, не с выразителем мнений публики, а с убежденным в своей миссии пророком, вещающим от имени самой Русской Истории по праву самого глубокого его знатока. Эта опора на историю давала Карамзину силу не только противоречить, но и грозить царю, не превращаясь при этом в революционера. То право увещевания, которого Петр лишил церковных первосвятителей, Карамзин ощутил в себе как плод аскетического подвига постижения русской истории. Его устами Россия древняя говорила с Россией новой, предписывая ей свои законы.
***
Практические занятия Карамзина как историографа произвели в нем радикальную перемену понимания самого предмета истории. Молодой литератор понимал «сочинение» истории как раскрашивание ярких картин прошлого, позволяющее сокращать скучные события и сведения. Зрелый историограф прошел школу исторической аскезы, усвоил принцип смирения перед историческим фактом, перед идеей подлинного, действительно бывшего. История теперь видится ему не как плод конструирующего художественного вдохновения, а как сбывшаяся реальность.
На принципе исторической аскезы Карамзин базирует и свои политические суждения в записках, обращенных к императору. «Старому народу не нужно новых законов», тысячелетняя история России накладывает на власть определенные обязательства и сковывает вольность «художественного вдохновения» в политике и красочных реформах.
Карамзин убежден: Русская история является единственной истинной Российской конституцией. Именно в ней заложены те механизмы ограничения самовластия, противодействия тирании, защиты свободы, которые тщетно надеяться найти для русских в теориях разделения властей и прочих формах европейского конституционализма.
Да, самодержавие – главная движущая русскую историю сила и любое разделение власти приведет лишь к смуте и исчезновению динамики русской истории. Однако это не значит, что самодержец свободен в своем самовластии и произволе. Самодержавие в России ограничено самодержавием. И дело не только в том, что монарх не может произвольно отречься от части или всех своих прав, но и в том, что благотворное самодержавие предков ограничивает возможность самовластия и тирании потомков. Принимая бёрковскую консервативную идею как наследования блага, Карамзин развивает её, трактуя наследие как ограничение зла. Каждый этап благой власти уменьшает вероятность возникновения тирании впоследствии и снижает её приемлемость для русского общества.
При этом Карамзин, ни в коем случае не ретроград и не реакционер, он движется в русле характерного для пост-просвещения консервативного прогрессизма. Прогресс – это не только развитие, но и утеснение проявлений зла в мире: насилия, беззакония, смерти, лжи, тирании, невежества и скудоумия. В неприятии этого зла большинство консерваторов первой волны (кроме, пожалуй, де Местра с его казуистикой во славу палача и инквизиции) едины. Они наследуют те идеалы Просвещения: гуманизм и законность, которые в рамках самой просвещенческой парадигмы были радикально попраны идеологией и практикой нового варварства, основанного на мифологеме “добродетельного дикаря”. Пост-просвещенцы, в числе коих Карамзин, находят для этих идеалов гораздо лучшее фактическое основание в идее консервативного прогресса как возрастающего накопления блага и возрастающего же утеснения зла.
Вторым столпом исторической конституции России, наряду с благим наследованием, является для Карамзина доверенность между государем и народом. Русским ответом на тиранию, по мнению историка, является не мятеж и не переворот, а безмолвие. Но это безмолвие ведет к исчезновению нравственной связи народа и властителя. Не перестают подчиняться, но перестают любить и доверять и через то стройный механизм русского исторического государства разлаживается. Казнь молчанием должна страшить русских государей не меньше, чем европейских плаха и гильотина и тем удерживать от тирании – этот мотив блистательно разовьет в «Борисе Годунове» Пушкин.
Меньше чем за год до смерти Николай Михайлович писал: «Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль… Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России».
Его жизнь была подчинена русской истории. И как прошлому, которое он изучал, постигал, описывал. И как настоящему, в котором действовал в роли политика — ради будущего. Чтобы тысячелетняя цепь великого исторического бытия не порвалась.
На основе статей: “Песнь свободе, гимн самодержавию” (журнал “Свой” № 12 2016), “Конституция старого народа. Историко-политическая концепция Карамзина” (“Тетради по консерватизму” №4 2016), “Прогресс в консервативной перспективе. Н.М. Карамзин и парадигма европейского пост-просвещения” (Портал “Русская идея” 14.12.2016)