А.П. Чехов. Архиерей

В Чехове, признаюсь честно, мне больше всего нравится его дача – небольшой домик в Гурзуфе, купленный им в последние годы и доставшийся после ожидаемой и запланированной кончины Ольге Книппер. Сейчас там музей. В Гурзуфе есть прекрасное место, где висят рядом две таблички: “Музей Пушкина – направо” и “Музей Чехова – налево”. Как сами понимаете, это неопровержимо доказывает, что Крым это Украина.
Но большинство посетителей интересует не музей, а проход на “Бухту Чехова” – чудесный каменистый пляж, где можно плавать между небольших невероятно красивых скал. Единственно что – там очень опасно-неспокойное море, – любая волна раскачивает тебя так, что ты боишься захлебнуться или удариться о камни. А уж дополнительные волны от катеров, “бананов” и прочих гидроплавов даже в полный штиль делают твое пребывание в этой бухте довольно рискованным. Один раз я там даже чуть не утонул – заплыл в небольшую пещеру и в это время пошла волна. “- Не любит меня Антон Павлович. Не любит” – пожаловался я жене. А она в ответ: “Можно подумать, ты его любишь”.
Нет, не люблю, хотя мы регулярно пересекаемся. Я даже был чеховским героем. Правда – безымянным. В таганской постановке “Трех Сестер” я как-то играл мальчика-погорельца. На меня накидывали шубку и солдат тащил меня через всю сцену, символизируя спасение из огня. На этом фоне Ольга замечала: “-Какой это ужас. И как надоело!”. Любимый чеховский прием, сталкивать обывательское переживание большого страшного события и мелкое чувство дискомфорта.
Не любя Чехова я периодически оказываюсь в чеховских местах. Например – на Сахалине. Сахалин был очень важной частью чеховского мифа. В неясном сознании советского школьника дело рисовалось так, что отважный врач отправился лечить узников-каторжников и революционеров, заболел от этих подвигов туберкулезом и был так потрясен в своем существе, что из веселого писателя стал грустным и умер. И вот летом 2008 года я оказался в чеховском музее в Александровске Сахалинском. И узнал массу нового.
Экскурсовод вежливая и сдержанная, но очень объективная объяснила, что Чехов ехал на Сахалин не врачом, а формально – “проводить статистическое обследование”, а на деле писать клеветон про каторжную действительность. “У него не было денег на поездку, он занял 1000 р. у Суворина… назад он возвращался на пароходе через Индийский океан, изучал в Японии гейш, делал остановку на Цейлоне, где купил двух мангустов…”. Судя по списку контактов Чехова на Сахалине, ехал он туда “курьером” для польских ссыльных. Клеветон, впрочем, вполне удался, но даже сами сотрудники музея признавали, что он – необъективен. “Чехов пишет, что дети питаются одной брюквой… Норма выдачи мяса была на килограмм больше, чем потребление мяса в СССР и на 30 кг больше, чем в РФ. Вряд ли они сами ели мясо, а детям не давали. Красть все начальники тоже не могли – как раз незадолго до приезда Чехова были осуждены несколько казнокрадов и в его время все были пуганые”. Так у меня на глазах рухнула главная составляющая чеховской легенды.
С тех пор Чехов располагает меня в основном к хулиганству. Любимое хулиганство – в Ялте, где на набережной стоит памятник “Дама с собачкой” мимо которого ходят третьей свежести дамы с собачками, видимо рассчитывая на мопсика словить кавалера. Памятник представляет собой композицию из двух фигур – энергичная высокая героиня с собачкой и усталый грустный ухажер, смотрящий как она проходит мимо. Если подойти к бронзовой даме, обнять ее за талию и так сфотографироваться, то получается душераздирающая сцена – корпулентный московский хлыщ с тросточкой уводит у героя даму, а тот ничего даже сделать не может, только смотрит с безысходностью и тоской.
В свое время в 57-й школе покойница Зоя Санна говорила мне: «Холмогоров, Чехов — не твой писатель. Ты еще думать не начал, а у него уже полрассказа прошло». И была права — вот в Толстоевском я понимал, а в Антон Палыче — никак. Грязновато пыльные синие тома Чехова стояли на полках, и даже запах их был такой, что мне приходилось себя буквально сжимать в кулак, чтобы заставить прочесть очередной требовавшийся программой рассказ.
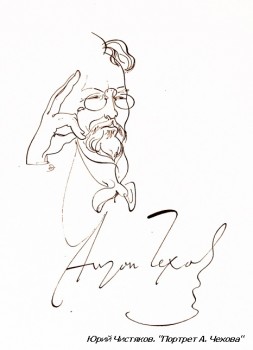
Потом мне попались «Рассказы о Анне Ахматовой» Анатолия Наймана, в которых подробно расписывалась нелюбовь Ахматовой к Чехову. Тема Ахматовой и Чехова оказалась вообще довольно богатой (вот тут в статье Льва Лосева – сводка фактов, хотя данная им интерпретация о мнимом огромном влиянии Чехова на Ахматову явно неверна и необходима прежде всего для спасения репутации идола интеллигенции — Антон Павловича — от нападок другого идола — Анны Андреевны). Почувствовав себя в явно интересной команде, я и к этой своей идиосинкразии начал относиться спокойней, а потом у меня выработалось и определенное объяснение.
Проблема Чехова как писателя в том, что он, с одной стороны, игнорирует действительность, он неточен в характеристиках, в описаниях, в фактах, иногда он попросту лжет (по ссылке — целый набор высказываний Ахматовой именно о социологическом не-реализме Чехова), с другой стороны, Чехов использует свои отступления от действительности прежде всего для её принижения, опошления, измельчения, он «закутывает всё в пепел», по выражению той же Ахматовой, но, наконец, есть и третья сторона — при этом Чехов свое принижение выполняет в псевдореалистической манере, он совершенно чужд «гоголевщины» или хотя бы «достоевщины». Его карикатуры продаются им самим как фотографии.
Получается технология тройного обмана, доведенная до совершенства в вещах типа «Архиерея» (одно из самых гадких произведений в известной мне русскоязычной литературе — даже Головлевы, пожалуй, не такие гадкие — точнее, слишком прямолинейно гадкие, сразу выплевываешь). Собственно, «Архиерей» довольно точно раскрывает и чеховский метод ненавязчивого псевдореалистического опошления, и конечный смысл этого метода — полное обессмысливание человеческой жизни, ариманическое отрицание ее высшей цели.
Основное противоречие человеческой жизни гениальный В.И.Несмелов определил так (я очень люблю эту формулу и часто ее привожу):
Человек неизбежно вступает в замкнутый круг загадочных противоречий. Он сознает, что в пределах и условиях наличного мира он живет именно так, как только и можно ему жить по физической природе. И в то же самое время он сознает, что эта единственно возможная для него жизнь не соответствует его духовной природе. Между тем, та идеальная жизнь, которая бы соответствовала его духовной природе, не может быть достигнута, потому что она противоречит условиям физической жизни. В сознании и переживании этих взаимных противоречий человек необходимо приходит к сознанию себя как загадки в мире.
Все лучшее в человеческой жизни, все наиболее достойное в человеке есть стремление выйти за пределы этого противоречия, попытка превзойти свою физическую природу (в широком смысле, речь не только о телесности), чтобы привести её в соответствие с духовной. Попытки этого самопревосхождения могут быть самыми разными, от одерживаемой с помощью благодати Божией победы духа над физикой в христианстве, через всевозможные формы титанизма, попыток сделать физического человека больше, чем он есть, и до нигилизма, отрицания физических условий как неприемлемых и несправедливых через уничтожение себя, уничтожение реальности, бунт и т.д. Но, так или иначе, практически все писатели этого мира, равно как и все художники, все философы, вообще практически все люди, на которых лежит миссия осмысления и направления человеческой жизни, участвуют в заговоре по растравливанию в человеке чувства этого конфликта, постоянном поддержании чувства пропасти, которую надо так или иначе перепрыгнуть.
Чехов был изменником. Так сказать, культурным дезертиром. Он дает картину «физической природы» человека именно за вычетом всего того, что в ней произведено стремлением духа к превосхождению этой природы. Отсюда псевдореализм его текстов. В них взято то, что тянет человека вниз, — но аккуратно исключено, или замазано, или снижено, или опошлено все, что тянет человека вверх. Оставлены на месте все кнопки на стульях, но старательно убраны сами стулья. В каждой взятой им коллизии противоречие между тяготящей физикой и неудовлетворенным духом декомпенсируется таким образом, чтобы не дать ни одного выхода для его возможной компенсации. Либо выход откровенно пародиен, оказывается издевательством хулиганистого Антоши Чехонте, как знаменитое чеховское эсхатологическое пророчество: «Мы увидим небо в алмазах».
Здесь, конечно, может быть наверчено псевдохристианского как бы пафоса в духе, что Чехов «показывает жизнь как есть» и разрушает иллюзии, выдуманные людьми подпорки, пустые прелестные мечты и т.д., чтобы за ними увидеть небо. Я очень хорошо себе представляю выстроенный в такой логике апологетический текст. Но он будет враньем, как и всякая псевдохристианская демагогия, подменяющая конкретность теофании в жизни через Церковь, через молитву, через нравственное чувство, через созерцание творений, некоей абстрактной «встречей» в безвоздушном пространстве для которой якобы никто и ничто на земле не нужно. Это уже не христианство, а такое учение о некоей Truth, которая, по выражению в известном сериале, всегда out there. И куда бы ты ни пришел, она всё равно out there.
Чехов идеализирует человека без истины и без стремления к ней, человека, замкнутого в жизненных обстояниях и неспособного прорваться через них. Идеализирует не в том смысле, что приукрашивает, а в том, что выставляет его идеальным типом человека вообще. Чеховские “типы” – будь то Человек в футляре, Анна на Шее или Душенька, действительно существуют. Но своей типизацией он лишь фиксирует, цементирует их существование. Этот тип легко и без внутреннего сопротивления катится по горочке вниз и совершенно неспособен к движению вверх. В нем нет ни решимости, ни грезы…
Человеку, который умирает при жизни, причем умирает необратимо, при этом прекрасно понимая механику и ход болезни, поскольку является врачом, можно, конечно, простить такой гиперманихейский взгляд на мир (гиперманихейский потому, что учение о тьме тут даже не уравновешивается учением о свете). Но не будем, пожалуй, ничего сводить к физиологии и вообще прибегать к экстернализму, этот прием уже вполне исчерпан заметками о Чехове Галковского и пусть там и остается. Тем более что вот в этом гиперманихействе Чехов был не до конца честен. Идеологически, в конечном счете, он съезжает раз за разом на довольно пошлую русофобию, на веру в то, что человек пошел и низок только здесь, где, как известно, нужно по капле выдавливать из себя раба. А там, в священной Загранице, человек как раз и живет под небом в алмазах, звучит гордо и кушает ананас.
В «Архиерее» мечта о Загранице навязчиво проходит через весь рассказ. Здесь «туберкулезная фобия» Чехова как выразителя духа «русской интеллигенции» развивается до крайней степени. Преосвященный Петр умирает, по сути, потому, что вдохнул России, – тлетворного и зараженного бациллами русского воздуха, и этот воздух убил его. Единственный способ выжить — бежать от этого воздуха, который несет в себе опасность и уничтожает всякую жизнь. Жить в чеховской России могут только те, кто уже не жив, а живые могут только умирать.
Возвращаясь к теме Ахматовой и Чехова. Лосев верно отмечает, что в их поэтике много схожего — состояния передаются через вещи. Но сходство приема еще никак не говорит о литературном родстве. Напротив, оно провоцирует еще более острое чувство отвращения к тому, кто использует прием в негодных целях. Именно будучи мастерицей передачи состояний через предметы, Ахматова должна была испытывать острую неприязнь к Чехову, который передавал через предметы не состояния, а их отсутствие, пустоты. У Ахматовой в ранних стихах предметы передают сильные, порой лихорадочные эмоции, она всегда находится между жизнью и смертью (или хотя бы между будуаром и моленной). Потом нюансировка передаваемых чувств становится тоньше, масштаб возрастает, но ахматовский «прием» — это действительно символ без метафоры, имеющий бесконечную глубину. Прежде всего — глубину сопричастности.
В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.
Это общее у всех, вышедших из акмеизма (хотя и прошедших разные расстояния). «Реализм» акмеистов оказывается символизмом, захватывающим все мироздание, в то время как «символизм» символистов оказывается набором аллегорических картинок из книжки XVIII века…
Предмет Чехова, обычно отвратительный, тоже оказывается символом, но только символом мнимости, пустоты, в крайнем случае — русского зараженного воздуха.
В его поэтике что-либо становится ничем.
Читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это всё те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они всё те же будут каждый год, а до каких пор — одному Богу известно».
«Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в Бога… Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом.
В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах «о здравии» и «за упокой»; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!»
Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона, в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят… И ей в самом деле не все верили.
Всё что было в человеке хорошего, плохого, великого, мелкого, все что имело вкус, запах, цвет, форму, обращается на ничто, пустоту. Вещи сначала покрываются зеленой патиной, затем превращаются в песок, осыпаются, и вот уже и пыли нет. Её даже не ветер унес, а сама куда-то эта пыль девалась. Распылилась.
Отсюда пресловутое неприятие Чеховым «пошлости», которое так любит наша русофобствующая или ницшеанствующая интеллигенция. Она не замечает, что пошлостью являются для Чехова не какие-то явления определенного времени и места. А всякое конкретное бытие. Любая ипостась для Чехова пошла уже потому, что является ипостасью. Выдавить по капле из себя раба значит выдавить любую конкретность существования, поскольку эта конкретность жмет, она тесна и дурно пахнет. Строго говоря, в чеховском мире невозможно — точнее, бессмысленно боговоплощение. Едва только Сын Божий станет человеком, Ему будут жать пеленки и беспокоить дурные запахи от пастухов, а у второго волхва будет смешно торчать из носа волос. Сын Божий махнет рукой на Сына Человеческого и уйдет куда подальше.
— Христос воскрес! Больше никого нет? — спросил тихий голос.
При этом, конечно, Чехов — очень русский писатель. Но его русскость — самая болезненная из всех в русской литературе. Она представляет собой выражение «русского аффекта» в чистый негатив, в торжество неустоя, в абсолютную обиду на весь свет, как у Сысоя: «Не ндравится! Уйду!».
Но это не уход за… (пусть даже самым призрачным «за…», пусть за Китежем, «Путем всея земли») — это уход от... У Чехова все уходят, уезжают, пропадают, и почти никто не приходит (и, тем более, не приходит безнаказанно). Придти в мире Чехова невозможно (конечно, мать приходит к Архиерею, но она, по сути, приносит бессмысленную смерть).
Можно только уйти.
«Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку и уходи… уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдешь, тем лучше».
— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.
— Не знаю… Должно быть, побросают все и уйдут.
— Куда уйдут?
— Куда?… Да куда угодно, — сказал Королев и засмеялся. — Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку».
Это русская аффективная природа, но доведенная до абсолютного одичания, самопотери и бессмысленности. Возведенная в абсолют опустошенности.
Чехов — страшный писатель, в котором русская душа, русская природа доходят до предельного саморазрушения. Но в этом, наверное, действительно какая-то загадка русской души. Она отвергла этот образ своего саморазрушения удвительно спокойно и без надрыва. Она попросту его не заметила. Она пошла дальше, порождая человеческие и писательские глыбы, мимо Чехова и его метафизики пустоты, любым способом возвращая смысл в мир. Превосходящая реальность, грань бытия и сверхбытия, русская мечта, столь остро противостоящая чеховской пустоте, вторгалась назад в русский язык платоновской Розой Люксембург, булгаковской Маргаритой, даже набоковской Лолитой, но уже в английский (Набоков очень высоко ценил Чехова, но не мог быть Чеховым, его объект, его вещь всегда весомей субъекта. Никакого Александра Ивановича, может, и не было, а вот невысокий комод был, и даже стул стоял нетвердо и они все вместе значили больше, чем Лужин).
Очень глубоко и умно об этой самозащите русского языка и русской культуры написал Алексей Варламов:
«Потом из воспоминаний Льва Гумилевского (не путать с Львом Гумилевым) я узнал, что Чехова не любил Андрей Платонов, а Платонов уже тогда был для меня “нашим всем” в ХХ веке… То, что Чехова больше всех из русских драматургов любят и ставят на Западе, — это их дело, у русских к своим писателям особый счет. И, пожалуй, именно Андрей Платонов здесь самый важный персонаж. Филологи, стилисты, люди тонкие и чувствительные находят сходство между Чеховым и Платоновым…
Параллели можно множить без конца, но они носят характер частный. Главное — читая Чехова, нельзя, невозможно поверить, что появится Андрей Платонов. Читая Платонова, невозможно поверить, что был Чехов. Это два разных мира, две чужих друг другу России. Но не “интеллигентская” и “народная”, здесь какой-то иной, метафизический, энергетический провал, тектонический сдвиг русской истории. И по большому счету, если что-то двух А.П., помимо невероятной одаренности, и роднит, так это преждевременная смерть от злой чахотки.
“Молодежь не идет в литературу, потому что лучшая ее часть теперь работает на паровозах”, — писал Чехов в своих записных книжках, а Платонов именно с паровоза в литературу спустился, не говоря уже о том совпадении, что его образованной от имени отца (Андрей, Платонов сын) фамилией воспользовался Чехов для наречения одной из своих пьес и ее главного героя.
Платоновский Платонов был опровержением не только Платонова чеховского, но и того нелюбимого мною в школе Дмитрия Ивановича Старцева, кого провинциальная жизнь мягко сломала, а воронежский мелиоратор, меж тем, годами неутомимо пахал в своей черноземной губернии (откуда, к слову сказать, вышли чеховские предки), копая колодцы и пруды, строя плотины и электростанции, и никакая рутина его, грезившего о покорении Вселенной, заставить скурвиться и превратиться в языческого божка не смогла.
Платонов стал ответом русского народа на революцию — ту самую, которой у Чехова нету».
Чехов как бы выбрал посмертную кару по себе. Ни один русский писатель не удостоился такого непонимания, опошления и неблагодарной памяти, поскольку только это непонимание и опошление было единственной защитой Чехова от изгнания и отторжения русской культурой. Даже интеллигентский культ Чехова оказывается невероятно плоским и пошлым. Он является почти что чеховской насмешкой над самим собой. Непонимание Чехова всегда было и остается нормальной реакцией школьника, который никак не успевает начать думать, хотя прошла уже половина рассказа. Любовь к Чехову — своеобразной формой фронды, «протеста против пошлости». Комично пошлого сегодня как никогда.
Выше я написал, что в чеховском мире невозможно боговоплощение. Для этого тезиса есть свое ограничение. Один раз Чехов написал вещь, очень похожую на все остальные свои вещи, но прямо противоположную по смыслу, по идеологии всему им написанному. Это «Студент». Невероятно «пошлый» рассказ в том смысле, что в нем Чехов напористо использует все свои любимые приемы, проговаривает тысячу раз проговоренные мысли, пробарабанивает все свои многажды повторявшиеся клеветы о вековой пустоте, смрадности и бессмысленности Руси. Но всё это проговаривание происходит с тем, чтобы взорвать все построенное словесное здание прямо противоположным, «ахматовским», христианским смыслом. Апостол Петр, ночь его предательства, распятый Христос оказываются смыслом этой ночи, этой степи, этого костра, этой бескрайней пустоты, этих баб, этого студента.
И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.
Кажется в эту минуту, дописывая этот текст, Чехов сам понимает, что он — Петр, только что отрекшийся от Христа, от Того, Кого он сам исповедал как Сына Бога Живаго. И исшед вон, плакася горько. Коронный чеховский уход оборачивается исходом с плачем. И вот мир приобретает ясность, цельность и смысловую связанность в воплотившемся в нём Христе.
Но нет. Тут Антон Палыч спохватывается. И «Студент» заканчивается совсем не вышеприведенным абзацем, а следующим:
И чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.
Роковое чеховское слово — казалось. Вновь покрывало майи, покрывало кажимости задергивает вроде бы открывшуюся Истину. Пустота, скрытая за этим покрывалом, вновь вступает в свои права. Смысл жизни оказывается не более чем игрой молодой крови, и Чехов вновь отправляется по своей выжженной степи к лжи и пустоте «Архиерея».
Показалось.
2 комментариев
Людмила
вот почитала я про вашу нелюбовь к Чехову и подумала…как хорошо и правильно я делала,когда читала классику ДО объяснения в школе.читала классиков и удивлялась простоте их рассказов,легкости чтения.(а мне говорили,что это сложно и не понятно).я не литературовед,не такой,как вы,замечательный критик,но Чехова я читала с детства и мне он очень понравился.вот Достоевского я все-таки нормально стала читать будучи взрослой.а остальных-в детстве,в школьном возрасте.а еще была манера перечитывать.поэтому если сейчас беру книгу,то понимаю,что читать это уже не интересно-я всех там знаю))
так я к чему?если бы я сначала прочитала ваше эссе,а потом Чехова,то наверное читала бы придирчиво.
спасибо,что поделились знаниями и впечатлениями))
OpTester
дал домашним почитать текст про Чехова. очень удивились. очень. про самого Чехова было все мутно и непонятно как бы, ну вот великий писатель, ну вот признан, ну и что? а тут текст как бы поясняет. насколько он великий. и насколько он мелочный. и тп. а кто такой Холмогоров? а такой интересный текст! не знали что Че на Сахалин ездил, вот для того чтобы гадкие рассказы писать, и чего то еще не знали. я говорю, публицист. а кто он вообще такой? он что литературный критик? прямо литературный критик! я говорю, нет, он не литературный критик, он публицист, он может критиковать конечно, он разное может писать, и критиковать тоже. говорю, вообще он поддерживает Рус весну. а критик он во вторую очередь да и не критик он, он просто может писать про литературу, хорошо писать. мне говорят – я не сколько про Чехова составила мнение, сколько про Холмогорова. такой вот интересный человек. а, нет, он даже не лит критик, он вот кто, литературовед!